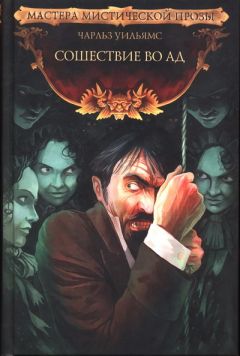В прежнем сне Уэнтворт спускался по веревке спокойно и даже с некоторым удовольствием, примерно так, как наш просвещенный мир качается на веревке, на одном конце которой болтаются отбросы цивилизации. Однако с тех пор, как его стал навещать призрак Аделы, сон больше не приходил. Уэнтворт спал крепко. А о чем ему беспокоиться – ведь если он проснется, она будет рядом с ним, лаская или баюкая его. Однажды ночью он подумал, как хорошо было бы проснуться и посмотреть на нее спящую, и когда он проснулся в следующий раз, она и вправду спала, готовая ответить на любые его желания. Но тут возник новый источник беспокойства. Глядя на нее спящую, он начинал думать о другой Аделе, спящей у себя дома. Некоторое время он утешался мыслью, что обладает ею без ее ведома, но эта умственная конструкция оказалась тяжеловата для его уже ослабленного ума. Он понял, что ему не нравится сам факт существования настоящей Аделы. Счастье обладания этим милым существом было бы куда полнее, будь та, другая, мертва. Нет, явно удовольствию кое-что мешало: ведь он знает, что она не знает… и что, возможно, однажды Хью… Он поспешно разбудил существо, спавшее рядом, и прошептал очередной приказ: она никогда не должна спать, когда он просыпается. Так закрылась еще одна дверь между ним и истиной.
Но вот однажды его сон вернулся и принес с собой беспокойство. В темноте он спускался по сияющей серебристой веревке и чувствовал себя еще спокойнее, чем раньше. Он смутно припомнил: он спускается к спутнице, ждущей его далеко внизу, там, где веревка привязана к стене пещеры в невидимом с высоты склоне. Спутница с мягкими обнаженными руками всегда ждет его там, она никогда не устанет ни от него, ни от ожидания, она томно закрывает глаза в предвкушении его появления… Пока он спускался навстречу этим ожиданиям, на него обрушился ужасный звук. Стонала бездна. Снизу и сверху, со всех сторон, его охватила душераздирающая скорбь почти невыносимого страдания, он судорожно вцепился в веревку, и она тоже дрожала от звука. Вопль страдания огласил пустоту, отразился эхом от невидимых стен, вдали еще раз перекатился отголосок и медленно стих. За этим последовала глубочайшая тишина. Он прислушивался, затаив дыхание, но стон-крик не повторился. Звук мгновенно превратил его сон в кошмар, он затрясся на своей веревке, задрожал всем телом и проснулся. Тут же проснулось и существо рядом с ним, та самая спутница, к которой он стремился во сне. Он вцепился в нее, торопливо спрятал уши между ее грудей и ладоней, чтобы больше никогда не слышать ночного стона. Он так торопился спрятаться, что не заметил лица той, у которой искал спасения. Оно было измученным и бесконечно дряхлым, щеки ввалились, глаза помутнели. На него тупо смотрело лицо слабоумной. Существо явно было раздосадовано, хотя и пыталось это скрыть. Движения почти-Аделы стали механическими, в них сквозила неестественность автомата, у которого кончается завод.
В этот миг из глубин Холма изливалась боль Господа. Так же изливалась она из глубин горы с прикованным Прометеем, так же стекала от креста на холме, тоже сложенном из черепов. [28] От такого же крика-стона так же прятались некогда уши в постелях Гоморры. [29]
А здесь и сейчас мертвец смотрел на Маргарет. Паулина думала о Стенхоупе и успокоилась, когда замерло эхо. Призрак рядом с Уэнтвортом ощутил живительную силу желания своего творца и возлюбленного. Тут же суккуб вернул себе утраченную было привлекательность и гладкость кожи. Великий обман Уэнтворта запрещал ей умирать и призывал к продолжению фантомной жизни. Создание вновь стало юным, как настоящая Адела. Ее возлюбленный сладко спал.
Как обычно, Уэнтворт встретил утро один. Но обычное умиротворение покинуло его. Утром он редко вспоминал ночь и был доволен этим. Июльским утром ему нравилось думать о работе – книгах, которые он читал, о книге, которую он писал. Он вспомнил, что так и не написал Астону Моффатту, хотя несколько раз принимался за письмо. Он попробовал обдумать очередное предложение, но даже не смог записать его. Ему то и дело приходилось возвращаться в кабинет за нужными документами, хотя они должны были лежать возле его кровати. В сознании плавали какие-то осколки мыслей. Теперь по утрам он часто ощущал вялость и в теле, и в мыслях. Вряд ли он признался бы себе, что все дело в физиологии. Его разум явно слабел. Потом, когда наступал день и его мужская сила возвращалась, он успокаивался. Но этим утром он испытывал смутное беспокойство. Он садился, вставал, ходил взад-вперед, старался сосредоточиться на той или иной мысли и не мог. Он плюнул на дела в городе и остался дома. Чем дольше длился этот злосчастный день, тем отчетливее Уэнтворт понимал, что просто боится встретить Аделу Хант, настоящую Аделу Хант. Он бы не вынес этого. В самом деле, какое она имеет право делать его возлюбленную своим фальшивым подобием?!
Лишь после одинокого ленча и часа работы, не принесшей ничего, кроме раздражения, он наконец позволил себе вспомнить о суккубе днем, и тут же услышал стук в дверь. У него не возникло и тени сомнения в том, кто стучит. Уэнтворт поспешил открыть. Она пришла.
Они сидели и разговаривали. Немного покопавшись у него в сознании, почти совсем Адела свободно говорила о Цезаре и Наполеоне, о генералах и кампаниях – о вещах, которых не могла знать, об истории, которую не могла помнить, о человеческой сущности, которой не могла постичь. Ему стало полегче, и все же весь этот день был испорчен мыслями о настоящей Аделе. Наступил час заката. Рука Уэнтворта лежала на ее обнаженной руке, ее руки ласкали его, а смутное беспокойство все не уходило. Он хотел опустить шторы, запереть двери, изгнать то, что засело в мозгу, отгородиться от всего мира, оставшись с тем, что с этим миром никак не совмещалось. Да, именно так – либо отгородиться полностью, либо уничтожить этот проклятый мир. Ну ладно, мир, допустим, уничтожить не удастся, ну тогда хотя бы одно существо, одну настоящую личность, которая шлялась где-то тут неподалеку…
Его беспокойство усиливалось настойчивым вторжением этой так называемой настоящей Аделы. Некоторое время назад он послал миссис Парри эскизы и описание формы стражи Герцога. Потом она пару раз звонила и настойчиво приглашала к себе, чтобы он оценил и одобрил результат. Он не хотел идти. Скоро премьера, он и туда не хотел идти. Адела будет на сцене, а ему не хотелось видеть ее ни в костюме восемнадцатого века, да и вообще ни в каком другом. Придется говорить с ней, а он не хотел с ней говорить. Он хотел остаться наедине со своими мечтами. Весь этот суетный мир во главе с мерзкой настоящей Аделой мешал ему. Конечно, отгородиться от него можно, но если он собирается и дальше наслаждаться призраком Аделы, его слуги должны видеть ее, подавать ей чай. А что они подумают, если выяснится, что настоящую Аделу в это самое время видели где-то еще? Или если случайно настоящая Адела сама зайдет к нему?