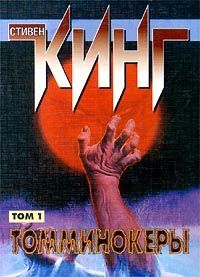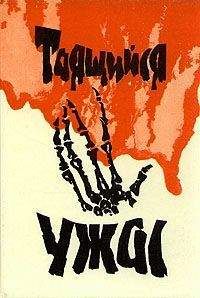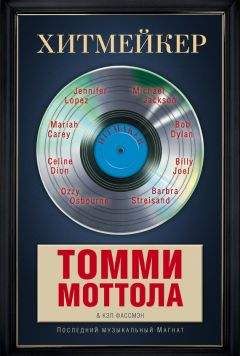Он давал себе много, очень много обещаний, и, видит Бог, тысячи из них сам же нарушал. Но это уж он сдержит.
Гарденер неуклюже вскарабкался не вершину волнореза. Крутая и скользкая, она была действительно подходящим местом для сведения счетов с жизнью. Апатично оглядываясь по сторонам, он искал свою старую заслуженную коричневую сумку, сопровождавшую его во всех странствиях, предполагая, что она могла завалиться между камней. Сумки нигде не было. Старая, добрая сумка, замызганная и покоробившаяся, вмещала весь джентльменский набор: белье, зубную щетку, кусок мыла в пластмассовой мыльнице, связки консервных ножей (они всегда забавляли Бобби; время от времени она пользовалась ими), счет на двадцать долларов на самом дне… и, конечно, все его неопубликованные стихи. Жаль, если все это пропадет, впрочем, ему-то это уже не пригодится…
Особенно стихи. Все то, что было им написано за последние два года под остроумным и метким названием «Радиационный цикл», было предложено пяти редакторам подряд, и отвергнуто всеми пятью. Один из безымянных редакторов нацарапал: «Поэзия и политика редко соприкасаются; поэзия и пропаганда никогда». Это маленькое поучение совершенно справедливо, банально, как все вечные истины, он вполне с ним согласен… но не может остановиться.
Ну что ж, прилив внесет в них поправки своим синим карандашом. Иди и делай, как задумал, мелькнуло у него в голове, когда он направился к пляжу, размышляя о том, что, должно быть, лучше покинуть место своего пробуждения, чем лишить себя жизни столь мелодраматическим способом.
Он шел, освещенный лучами солнца, встававшего из вод Атлантики, и тень опережала его. В это время на пляже было пустынно; только один мальчишка в джинсах и клетчатой рубашке пускал фейерверк.
Здорово, его походная сумка вовсе не потерялась. Она валялась вверх дном чуть выше полосы прибоя, буквально «разинув рот». Как пасть голодного чудовища, зарывшегося в песок, подумал Гарденер. Он поднял сумку и заглянул вовнутрь. Пусто. Исчезло даже потрепанное белье. Перевернув сумку и постучав по дну, он обнаружил исчезновение счета на двадцать долларов. Зародившаяся было надежда испарилась в один миг.
Оглядевшись по сторонам, Гарденер заметил поблизости три записные книжки, наполовину засыпанные песком. Ветер перелистывал страницы телефонного справочника. Спокойно, подумал Гарденер. Испей чашу до дна.
Мальчишка, возившийся с фейерверком, двинулся к нему… но вплотную не подошел. Это предосторожность на случай того, если я действительно столь ужасен, как выгляжу… Он оставляет за собой возможность удрать, подумал Гарденер. Предусмотрительный ребенок.
— Это ваше? — поинтересовался паренек. Его рубаха была щедро осыпана овощным рисунком. «Жертва школьных завтраков» гласила надпись.
— Ага, — отозвался Гарденер. Он наклонился, чтобы подобрать размокшую записную книжку; посмотрев на раскисшие странички, он бросил ее на песок.
Школьник протянул ему две оставшиеся. Ну, что тут скажешь? Не бери в голову, парень? Туда этим стихам и дорога? Поэзия и политика соприкасаются редко, мой мальчик, а поэзия и пропаганда — никогда?
— Спасибо, — поблагодарил Гарденер.
— Не за что. — Паренек раскрыл сумку так, чтобы Гарденер мог бросить в нее две более-менее уцелевшие книжечки. — Диву даюсь, что вы нашли хоть часть потерянного. Летом эти места просто кишат всякими проходимцами. Особенно парк.
Паренек ткнул пальцем, указывая на что-то, находившееся за спиной Гарденера. Тот обернулся и увидел силуэт большого каботажного судна, чернеющий на фоне восхода. Сначала Гард предположил, что он ухитрился протопать довольно далеко на север к Олд Орчард Бич, еще до восхода солнца. Потом он заметил знакомый волнорез. Нет, он там же, где и был.
— Где я? — спросил Гарденер, и в его памяти пронесся тягостный разговор в тюрьме с полицейским, ковыряющим в носу. В какой-то момент, он был уверен, что мальчишка снова ответит вопросом на вопрос. «А вы-то сами, как думаете?»
— На Аркадия Бич, — отозвался парень, глядя на него с недоумением. Похоже, мистер, вы проторчали здесь всю ночь.
— Нынче ночью, верь не верь, — хрипло, дрожащим голосом подтвердил Гарденер, — Томминокер, Томминокер, Томминокер стукнул в дверь…
Парень удивленно уставился на Гарденера… И, нежданно-негаданно, выпалил продолжение куплета, которое Гарду слышать не доводилось: «Я хотел бы выйти, но не смею: я боюсь его там, за закрытой дверью».
Гарденер расхохотался… и тут же поморщился от проснувшейся боли.
— Где ты это слышал, парень?
— От мамы. Я тогда был еще совсем маленьким.
— Я тоже слышал о Томминокерах от мамы, — вспомнил Гарденер, — но этот куплет слышу впервые.
Парень поморщился, как будто тема потеряла для него всякий интерес.
— Она, бывало, несла всякий вздор. — Он окинул взглядом Гарденера. — Что, очень болит?
— Парень, — начал Гарденер, почти сгибаясь от боли, — если цитировать бессмертные строки Эда Сандерса и Тьюли Купферберга, мое самочувствие сравнимо с «самодельным говном».
— И долго вы пьянствовали?
— А? Как ты догадался?
— Да вы ведете себя точь-в-точь, как моя мама. Она, бывало, когда напьется, то всегда несет чепуху о Томминокерах, или о чем-то вроде этого.
— Она плохо кончила?
— Ага. Разбилась в машине.
Внезапно Гарденера пробрала дрожь. Парень, казалось, не обратил на это внимания; он наблюдал за чайками, пикирующими над пляжем. Они то купались в розовых лучах солнца, то прохаживались по волнорезу, выискивая что-то, бывшее, на их взгляд, съедобным.
Гарденер перевел взгляд на своего собеседника. Окружающее приобретало все более таинственные тона. Этот парень слышал о проделках Томминокеров. Сколько же детей на свете знает об этих существах, если судьба случайна свела Гарденера с одним из них, и многие ли теряли родителей из-за пристрастия к бутылке?
Парень запустил руку в карман и извлек коробочку фейерверк-патронов. Вот она — жар-птица юности, подумал Гарденер, улыбнувшись.
— Хочешь, запустим парочку? В честь четвертого числа? Это должно тебя развеселить.
— В честь четвертого? Четвертого июля, хочешь сказать? А что это за день?
Парень сухо улыбнулся.
— Как же, это ведь День Труда.
Кажется, двадцать шестого июня… он попытался восстановить последовательность событий. Боже милостивый! Что же он делал все эти восемь дней. Ну… кое-что вспоминается. Так-то лучше. Отдельные проблески сознания пробивались через кромешную тьму, окутавшую его память, правда, ничего существенного прояснить им не удавалось. Навязчивая идея, будто он покалечил кого-то, снова поселилась в его голове, но уже как несомненная реальность. Хотел бы он знать; кто его (Трептрепл) жертва, и что он сделал ему или ей? Не стоит. Лучше всего будет позвонить сейчас Бобби и, не дожидаясь, пока он вспомнит, что произошло, покончить с собой.