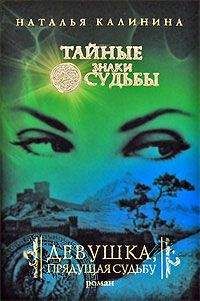Одураченный брухо наконец отмирает и бросается на них. Сорсье скользит через липкую, вязкую темноту комнаты неуловимо и стремительно, в его кулаке бликует раскрытая, жаждущая крови наваха. Но не она одна здесь ищет крови.
— Китти, взять! — облегченно произносит Кэт. И Китти приходит и берет.
Откушенная по запястье кисть падает на пол у ног Сесила. Желтые загнутые клыки с хрустом вырывают горло колдуну. Ребекка, визжа и пряча лицо в сгиб локтя, отползает на заднице в угол, пока Китти голыми руками крушит ребра ривкиному отцу, проламываясь внутрь грудины, к сжавшемуся в предсмертном ужасе сердцу, теплому, полному вкусной, густой крови. Мокрая красная грива елозит по распластанному телу, шершавый язык исчезает в ране, лакает и лижет часто-часто. Стоны демоницы — непристойные, почти любовные — наполняют, кажется, весь дом.
— Китти, девчонку не трогать, — приказывает Саграда и подхватывает Уильяма под мышки, помогая встать. — Хитрец проклятый… В плоти ему тесно… Идти-то сможешь?
— Кэт. — Голос Сесила вновь человеческий, слабый и хриплый. — Кэт… Почему? Почему ты пришла за мной? Зачем рисковала?
Пута дель Дьябло отводит глаза, когда мужская ладонь накрывает ее живот. Скоро, скоро ее жизнь закончится. Она отправится по лунной дорожке к Торо и всем, с кем дружна и перед кем виновата. А Эби останется. Останется с тем, кому дорога.
Выбора нет ни у кого из них. Их странное семейство — на развилке и пути расходятся, убегая друг от друга все дальше и дальше, во мглу.
Глава 9
Твое место нравится мне
Власть — это бумаги. Горы, высокогорья, горные хребты и массивы бумаг. Каждая — чья-то жизнь, имущество, вера и достоинство, замершие под дамокловым мечом закона. А закон, сколь ни называй его мудрым, справедливым и независимым — тварь тупая, капризная и всегда сидящая на чьей-то сворке. Здесь все сворки в Катиных руках. Вернее, в руках папы Иоанна. Все-таки Уриил подшутил над нею — дал самое оскверненное из папских имен, принадлежавшее никогда не существовавшей папессе и антипапе из рода Косса,[88] на полтысячи лет преданное суеверному и брезгливому забвению. Что ж, если все пойдет наперекосяк, Катя лишний раз подтвердит: не надо понтифику под Иванушку-дурачка косить. Не прокатит.
— У тебя мозоль на пальце, — деловито замечает камерленго, поднимает Катину ладонь к свету и деловито оценивает размер ущерба, нанесенного главному инструменту власти. Между фалангами среднего пальца наливается изрядная багровая припухлость. — Скоро пузырь будет.
— А еще у меня глаза болят, — жалуется Катерина скрипучим голосом скопца. Так разговаривает папа — мужчина, но ни разу не мачо и не красавец. Просто низкорослый, болезненный, узкоплечий, расплывшийся в талии, словом, совершенно непривлекательный мужчина, каждую минуту решающий чью-то судьбу. У женщины не будет никаких проблем с преображением в мужчину (et vice versa[89]), если сексапильность результата несущественна.
Из Кати вышел образец чистоты и нравственности — если принимать во внимание исключительно внешнюю сторону поведения понтифика. Скромность Иоанна, ускользающего от всех соблазнов с опущенными долу глазами, вошла в поговорку.
С начала правления курия изо всех сил испытывала папское целомудрие, точно по шкале Кинси проверяла. И в конце концов, огорченно вздохнув, вывела результат — «X».[90] Никто не вызвал в папе любовного огня: ни восторженные монахини, припадавшие к стопам, ни светские дамы с глазами черными в лиловый отлив, будто сливы, ни ангелоподобные послушники с голосами слаще холодной воды в полдень, ни веселые конюхи-садовники с мускулистыми бедрами и круглыми загорелыми плечами. Ну а если Иоанна уж очень донимали, он смыкал створки, как устрица в отлив, и бросал тяжелый взгляд на камерленго, которого в народе прозвали Адским Псом, хоть и боязно так говорить о кардинале. Но уж очень черен был мастью, а еще предан хозяину и беспощаден, словно баргест.[91] Камерленго мигом отваживал от папы любого, не считаясь ни с силой, ни с родовитостью. Оттого, видно, папа и доверял ему, как себе. И никому больше.
Даже госсекретарю престола, хоть тот и был сущий ангел: весь на просвет, лучащийся добротой и отзывчивостью — и не фальшиво, а истинно добрый, чего от лиц его положения ждать не приходится. А все-таки понтифик сторонился секретаря и имя его сложно-протяжное выговаривал без запинки, но с ледяным позвякиванием в голосе — кар-ди-нал Цап-фу-эль. В то время как имя камерленго проборматывал так, что и не разберешь: Лука? Лучано? Люций?
Катерина смирилась с подколками Уриила, она их почти полюбила, как любит учитель выходки самого талантливого и непоседливого ученика в классе, понимая: этот-то шалопай, возможно, и прославит его имя. Однако гималаи бумаг, вырастающие на столе по милости ангела луны, не были ни шуткой, ни соблазном. Власть рутинная, непраздничная глядела с листов прошений и жалоб, шептала тысячами ртов, пересохших от жадности и отчаянья: нижайше просим… окажите милость… молим ваше святейшество… преклонив колени… помогите. Катя чувствовала, что растворяется в этих голосах, будто кубик рафинада в обжигающе-горячем эспрессо… который в Ватикане, надо сказать, варили паршиво. Или не паршиво, но Катерине не нравилось. Ей сейчас вообще мало что нравилось: ребенок рос и строил свое тело из Катиного мяса и костей, вызывая чудовищные в своей нелепости пристрастия.
Денница проносил в папские покои красные оливки, лук и чеснок, собственноручно толок из них жутчайшую смесь на меду, хохотал, намазывая бурой кашицей ломти пармской дыни и кормя ими только что не плачущую от наслаждения Катю. Люциферовой заботой Катерину окружило и окутало со всех сторон — что в Ватикане, что за его пределами. Денница нашел Саграде ту самую акушерку, которую ангел предлагал прирезать после родов папессы, чтоб молчала. А дьявол оказался добрее и умней: отыскал такую, чья преданность была не купленной, а истинной. Сынок акушерки крепко увяз в истории с похищением знатной девицы из дома ее родителей и лишь вмешательство папы позволило молодым людям спастись от гнева родни, а потом и пожениться. Ради своего маммоне[92] Фаустина, которую даже собственные дети непочтительно звали Тинучча, убилась бы об ступени базилики Сан-Пьетро, молясь о спасении непутевого отпрыска. А милостивец-камерленго шел мимо, да и спросил: что с тобою, добрая женщина?
— Тинучча говорит, слишком много работаешь, так ты навредишь ребенку, — кивает Люцифер. — Хочешь, я убью Уриила, устрою церковный раскол, похищу тебя и увезу на море?