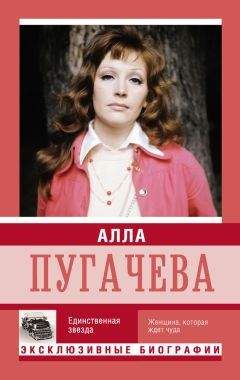В это мгновение я добежала до арены баталий и вцепилась деду в руку. Он обернулся и, увидев меня, смутился. Даже глаза опустил.
— Деда, ну зачем ты это?! — бросила я ему с укором в лицо. — Нельзя так.
— Можно, Света, — отозвался еле слышно он, отворачиваясь в сторону. — Нужно! Такое прощать нельзя.
Я заметила вдруг валявшийся в отдалении топор. Картина вырисовывалась: Пахомов бросился с топором защищать возлюбленную от дедовских проклятий — не бил же тот её, я надеюсь? — а старик взялся за него.
— Вот она, люди добрые! — завизжала, тыча в меня пальцем, библиотекарша Макарычева. — Вот она, дьяволица! Исчадие ада! С неё у нас все беды начались. Она проклята, потому что в тяжком грехе родилась.
Дед рывком освободился от моей хватки и метнулся к ней. Макарычева завопила, отскакивая назад, закрылась руками и съёжилась. Кулаки дедовские до белизны были сжаты, зубы сцеплены в испепеляющей ярости, желваки играли на щеках, а морщины напряжены неистово. Но он сдержался. Только плюнул себе под ноги и бросил женщине негромко:
— До какого же скотства ты докатилась, Людмила! Какие грязные у тебя мысли!
Потом развернулся, махнул мне ладонью, призывая, и, обняв за плечи, отчего мне пришлось подстраиваться под его ход и неуклюже семенить, зашагал по улице в обратном направлении.
У поворота я обернулась — Пахомов уже не лежал, а сидел на дороге, библиотекарша делилась переживаниями с двумя утешавшими её женщинами, а деревенские ротозеи, окружившие сцену битвы, живо обменивались впечатлениями. Было их не меньше дюжины — от детей до стариков.
— Светлана! — сказал на ходу, не глядя на меня, Никита Владимирович. — Ты запомни одно. Всё, что эта дура тебе наболтала — чушь собачья. Не было ничего подобного и быть не могло. Веришь мне? — он посмотрел на меня пристально и даже отчаянно.
— Верю! — ответила я быстро и уверенностью своей деда немного успокоила.
Он, по крайней мере, расправился как-то и посветлел. А меня за дедушку гордость распирала.
Я люблю смотреть, как мужчины дерутся. Возбуждает. По телевизору бокс никогда не пропускаю. Но, странное дело, симпатии часто вызывает проигравший. Разобьют какому-нибудь никудышному боксёришке морду, стоит он перед телекамерой с кровавой юшкой под носом, глаза потерянные, дышит — не надышится, майка мокрая от пота, недовольный тренер претензии в лицо швыряет — и так жалко его станет, что в телевизор хочется залезть и утешить беднягу. Словно он за твою честь бился.
Должно быть, это оттого, что у меня психология неудачницы. И я подсознательно ищу в жизни ситуации, в которых могу предстать в собственных глазах свободной от обязательств перед миром, то есть побитой и отвергнутой. Так легче на самом деле. Я понимаю это, но почему-то с собой не борюсь.
Вот и к Пахомову жалость проснулась. Небольшая, но всё же. Тут иной, конечно, случай, дед по-любому молодец, герой и восставший титан, но Егор ведь тоже как бы ни при чём. Он свою женщину защищал и хотя бы этим заслуживает уважения. Попал под горячую руку. Расплатился за бабскую глупость. Хотя тряпка и вообще человек скользкий. Не хочу, чтобы он был моим отцом. Никого не хочу в отцы! Но… жалко.
Будулай велел никого не жалеть. Сам не жалел и других просил не беспокоиться. А я цыгана не слушаю. Вот ещё не хватало, чтобы моё глупое счастье ты у меня украл! Счастье быть слабой и человечной.
Только что же мне делать со всей этой жалостью? Задушит она меня и землицей завалит.
Ночь выдалась прозрачная, безветренная. Кузнечики чирикают как полоумные. Полнолуние. Диск луны прямо в окна заглядывает, заснуть невозможно. Я уж и так поворачивалась и эдак — никак не подобрать точку опоры, от которой покой настанет. Руку вытяну — на стене тень. Такой сегодня месяц озорной да светлый. Можно из кулаков комбинации складывать: животные, существа сказочные, отцы потерянные с рогами и клыками, как у чертей. Ну-ка, назовись, кто тут по мою душу? А-а, вот этот! На тебе, бестолочь, на тебе, гадина! Будешь знать, как детей делать, когда никто об этом не просит.
За окнами — одно в моей комнате приоткрыто, жарко потому что — шаги будто. Нет, тишина… А вот опять топчется кто-то… Господи, уж и вправду никак чёрт рогатый явился!
— Никит Владимирыч! — донеслось с улицы, голос нетвёрдый, жалобный, выражает что-то надрывное интонацией нервной. — А, Никит Владимирыч! Выгляни в окошко, будь добр!
Э-э, да это Пахомов! Да уж, чёрт и есть. Помянула — явился. Пьяный, похоже. А жалость-то прошла, гость ночной-незванный, улетучилась! Будулай забрал, к нему обращайся с претензиями.
— Гвардии лейтенант Бойченко! — школьный директор повысил голос. — Герой Великой Отечественной! Спаситель человечества! К вам обращается отставной козы барабанщик Егор Пахомов. Всеми презираемое чмо. Уделите мне пару минут вашего драгоценного времени.
Я с кровати как-то сама собой сползла — она даже не скрипнула ни разу, хотя за ней такая черта водилась — пригнулась и к окну подползла. Приподнялась малость — пошатывающийся Егор Валерьевич стоит в паре метров от кухонного окна. Луна и впрямь хороша, да ещё сбоку удачно так заглядывает — даже выражение лица у него разглядеть можно. Сосредоточенный, злой. Преисполненный скорби к миру, а более всего — к самому себе. Тревогу вызывает. Что опасное вряд ли выкинет, но на мелкую пакость вполне способен. Пьяный, да. Потому и храбрый.
— Ничтожество вызывает вас на разговор! — сосредоточенно глядя в окно, выдал Пахомов. — Неужели у советского героя и совести народа не хватит духа перемолвиться парой слов с говорящей обезьяной?
И вправду, а где же дед? Спит разве?
— Что тебе? — раздался из соседней комнаты дедовский голос, а перед ним донёсся звук открываемого окна. Как дед вставал с кровати я не услышала.
— О, браво! — Егор беззвучно поаплодировал и состроил гримаску благодарного презрения. — Вы достойны всемерного уважения за вашу храбрость. И восхищения. Разумеется, восхищения.
— Егор, — прервал его словоизвержение дед, — мы с тобой не одни тут. Ребёнок спит, да и вообще нас за километр слышно. Шёл бы домой, а? Ну а завтра всё с тобой по-человечески обсудим. Подраться хочешь — подерёмся. Я даже сопротивляться не буду. Отведёшь душу, будь уверен.
— Помолчи, Никита Владимирович! — махнул рукой Пахомов. — Помолчи! Слушай меня лучше.
Дед и вправду возражать не стал, а Егор, выждав секундную паузу, которая сопровождалась глубокомысленным вдохом-выдохом, вдруг опустился на колени.