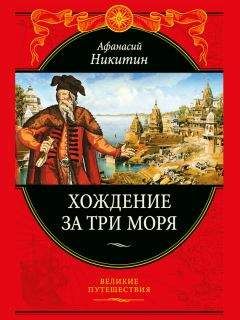– Намерен! А почему это тебя так интересует?! Ты переходишь границы дозволенного! – грубо заметил он.
– Разумеется… Простите меня, дон Гарсия… Я позволил себе лишнего…
Хозяин милостиво кивнул гостю.
– Так и быть объяснись… – снизошёл он.
Мендоса поднялся с кресла и произнёс:
– Я люблю вашу дочь… и прошу её руки…
Дон Гарсия воззрился на гостя немигающим взором. Прошло несколько минут…
Наконец он возопил:
– Мендоса, ты любишь мою дочь?! Её невозможно не любить! Она красавица! Но как ты посмел просить её руки?
В ярости он отбросил бокал, тот упал и разбился. Остатки вина залили прекрасный ковёр…
– Да, я дерзок! Но я не могу смириться с тем, что Джованна будет принадлежать другому!
– Ты лишился рассудка, Мендоса! – Алонзо, дрожа от гнева, поднялся с кресла. – Ты – нищий идальго! Комендант крепости! Торговец рабами!
Мендоса замер. Он и подумать не мог, что дону Гарсии известно о его незаконном промысле.
– Я знаю про тебя всё, щенок! – возопил Алонзо, забыв все приличия. – Ты снюхался с португальцами! Да одно моё слово и ты окажешься на виселице! Эмиссар сам накинет её на твою шею!
Но природное хладнокровие взяло верх, Риккардо ледяным тоном произнёс:
– Не вы ли покупали у меня рабов, дон Алонзо? Неужели забыли? Так, что мы связаны с вами одной ниточкой. Если эмиссар узнает о моих незаконных действиях, то недруги и завистники насладятся вашим падением!
– Ты смеешь угрожать мне, щенок! – ярился дон Гарсия.
– Отнюдь! Я пришёл сюда не угрожать, а просить руки Джованны.
– Что ты можешь ей предложить? Жизнь в захудалой крепости?
– Я могу построить дом в Асунсьоне… И достойно содержать жену.
– На какие доходы? – не унимался дон Гарсия. – Полученные от торговли рабами? Нечего сказать, достойное занятие для идальго. К тому же мне стало известно, что ты не можешь вернуться в Испанию…
Мендоса почувствовал, что его сердце сковал холод: Дон Гарсия всё знал. Джованна потеряна для него навсегда…
– Прочь отсюда! Иначе я позову своих телохранителей.
Портьера слегка колыхнулась, из-за неё появились три здоровенных креола, в их силе Мендоса не сомневался.
Ему ничего не оставалось делать, как откланяться и навсегда покинуть асьенду. Скажи он ещё хоть слово, креолы бы расправились с ним, а затем бросили в сельве, обвинив в убийстве индейцев.
* * *
Риккардо мчался, пришпоривая коня, не разбирая дороги. Время приближалось к полуночи…
Из сельвы доносились леденящие душу звуки, издаваемые ночными животными, в частности ночными обезьянами. Создавалось впечатление, что сельва переполнена совами[88]. Но Мендоса за годы пребывания в Парагвае давно свыкся с ними и не обращал ни малейшего внимания.
Наконец, он натянул поводья, резко остановив коня.
– Я ненавижу тебя Гарсия! Ненавижу! Будь ты проклят! – возопил он.
Риккардо тяжело дышал, сердце его учащённо билось. Немного успокоившись, он слегка пришпорил коня и тот неспешно тронулся с места.
До Энкарнасьона у него было достаточно времени, дабы обдумать свои последующие действия.
– Открыто выступать против Гарсии – чистое безумие… – размышлял он вслух. – Его ублюдки прикончат меня из-за угла… И Джованна достанется какому-нибудь худосочному родовитому гранду… Надо действовать хитростью… А для этого усыпить бдительность дель Гарсии. Этим я и займусь завтра…
На следующий день, едва колокола местной церкви отзвонили терцию, Риккардо сел за написание письма, адресованного дону Алонзо. Комендант был на редкость красноречив: он долго и витиевато распинался в своём совершенном почтении и уважении к энкомендеро, заверял его в своей безграничной преданности, искренне сожалел о своей вчерашней дерзости и молил простить его. Наконец, он закончил сию эпистолию, ещё раз пробежался по ней глазами, оставшись вполне довольным своим экспромтом. Он свернул письмо и запечатал сургучовой печатью.
Однако к письму, дабы раскаяние выглядело более правдоподобно, он присовокупил подарок – тушу оленя, подстреленного намедни охотниками.
Дон Алонзо, получив сие послание, поначалу и читать его не хотел. А тушу оленя распорядился отдать своим работникам. Однако любопытство взяло верх, и он всё же распечатал письмо Риккардо. Его содержание «пролило бальзам» на задетое самолюбие дель Гарсии и он почти простил дерзкого идальго. Что поделать: любовь травами не лечится[89]. Да и Джованна настолько хороша, что любой мужчина может потерять рассудок от любви к ней. Словом, Риккардо Мендоса был прощён…
* * *
Тем временем Мендоса отправился в арсенал и, разглядывая устаревшие аркебузы[90], подумал, что in hostem omnia licita[91]. Ибо в его голове созрел план, как заполучить прекрасную Джованну и наказать её несговорчивого отца.
Он выбрал десяток аркебуз, в которых пороховой заряд поджигался помощью фитильного замка, ими не пользовались последние лет десять, ибо из Испании были присланы ружья с колесцовыми замками.
Сам же Мендоса предпочитал (помимо эспады) пользоваться новейшим изобретением оружейного дела – пистолетом типа Puffer[92], сравнительно небольшие размеры, которого позволяли носить его незаметно под колетом или жилетом-корпесуэло[93].
Также Риккардо намеревался прихватить из арсенала бочонок пороха. Всё это он приказал своим сподручным загрузить в повозку и тщательно укрыть пустыми мешками. Затем он сел верхом и покинул крепость в сопровождении трёх matones, один из которых правил повозкой.
Мендоса направился к Тимауке, кацику[94] здешнего племени, не присоединившегося ни к одному из христианских миссий. Он знал о том, что Джованна была рождена от женщины-гуарани, дочери вождя этого племени и тот никогда не одобрял выбора дочери и считал, что бог Тупи покарал её за вероотступничество. Именно поэтому она умерла столь молодой.
…Небольшой отряд испанцев приближался к селению-касикасго[95]. Мендоса по опыту знал, что отряд из десяти-двенадцати индейцев охраняют касикасго, искусно скрываясь за деревьями. Не доезжая до него, он отдал своим людям приказ остановиться и спешился. Риккардо за время пребывания в Парагвае освоил язык гуарани и вполне мог изъясняться на нём. Он нарочито громко произнёс:
– Я пришёл с миром к вашему кацику Тимауке и принёс дары!
В подтверждении своих слов Риккардо извлёк из повозки одно из ружей и потряс им, дабы гуарани, притаившиеся в сельве хорошо его разглядели. Наконец, словно духи леса, перед ним появились два воина-гуарани.