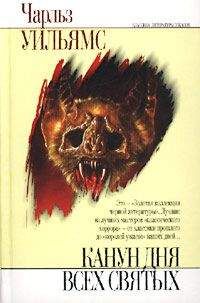Оказывается, Эвелин в это время тоже говорила. Быстрый, небрежный голос перекатывал, смазывал слова.
— Как долго тебя все же не было, — бормотала она. — Я думала, ты уж совсем не придешь. Я ждала, ждала, ты и представить себе не можешь, сколько. Пойдем в парк, посидим немного.
Лестер приготовилась ответить, но испугалась того, как привычно-плоско звучат слова. Она держала себя в руках с тех самых пор, как окончательно рассталась с Ричардом, поэтому сумела удержать в сознании и то новое состояние, в котором они очутились. Болтовня о том, чтобы посидеть в парке, показалась ей кошмаром, сродни тем страшным снам, в которых невозможное оборачивается реальностью. Она видела перед собой вход в подземку и припоминала, что они собирались отправиться куда-то на метро. Она начала отвечать не менее дурацким образом: «Но, может, мы лучше…» — когда Эвелин схватила ее за руку. Лестер не любила, когда ее трогают, и прикосновений Эвелин не любила; а теперь и то и другое не понравилось ей больше обыкновенного.
Тело отшатнулось. Она не сводила глаз со входа, а отвращение плоти все нарастало. Вот вход; они собирались ехать. Да, но что, если там уже нет никакого метро или в нем пусто так же, как и на улицах? Человек Средневековья испугался бы в этот момент чего-нибудь другого — возможно, пути в citta dolente1, или его обитателей, гладкокожих или волосатых, с клыками или с когтями, злобных или алчных, крадущихся или карабкающихся наверх из самых жутких бездн. Лестер не думала об этом, зато она подумала о подземных пространствах и о том, чем они могут быть заполнены. В самом деле, чем, кроме смерти? Возможно, вспыхнула мысль, возможно, там люди, все люди этого мертвого Города; возможно, именно там ждут они ее, как ждет этот вход и все, что под ним. С подобными вещами все ее мужество не отважилось бы встретиться лицом к лицу. Так легка была рука Эвелин, сжимавшая ее руку, а страх, застывший в глазах подруги, так тяжел, так близок к ее собственному, что Лестер поддалась и позволила увести себя.
Они отправились в парк; они нашли скамейку; они уселись. Начав говорить, Эвелин никак не могла остановиться. Лестер всегда знала, что та любит поболтать, и готова была привычно перестать слушать после первых же слов. Однако на этот раз отключиться не удалось. Никогда еще тусклая скороговорка Эвелин не казалась ей столь противной. Голос был тонкий и вкрадчивый, как обычно, но теперь он еще и прилипал как-то, и все никак не кончался. Он струился, как река, нет, пожалуй, кувыркался, словно что-то, с размаху брошенное в реку; в нем не было напряжения, в нем не было веса, одно только чистое течение.
— ..Не стоит нам, наверное, сегодня туда ходить, после всего, — булькали слова. — Я про то, что людей вокруг слишком мало, а я терпеть не могу сидеть в пустом театре, ты ведь тоже, наверное? Даже в кино. Все становится совсем не так. Ненавижу, когда вокруг никого нет. Может, нам стоит пойти навестить Бетти? Знаю, знаю, Бетти тебе не нравится, да и мамочка ее тоже. Мне ее мамочка тоже не больно-то нравится, но, сказать по правде, с Бетти ей, должно быть, не сладко приходится.
Надо было мне больше ей помогать, но я уж и так старалась, делала все, что могла. На самом деле мне всегда очень нравилась Бетти, и я ведь говорила, что найдется какое-нибудь простое объяснение той истории с немецким эмигрантом, ну, года два назад, помнишь? Конечно, с ней я об этом никогда не говорила, потому что она ведь всегда такая болезненно стеснительная, правда? Слышала только, что этот художник потом еще несколько раз к ней заходил. Как его звали? Дрейтон, кажется. Он ведь друг твоего мужа? Никогда бы не подумала, что он…
Лестер сказала или ей показалось, что сказала, нечто вроде:
— Уймись, Эвелин.
Голос тут же смолк. Лестер поняла, что это она его остановила. Сама она не могла бы произнести ни слова. Безмолвие Города сразу стало давящей явью, и на миг она чуть не пожалела о своих словах, но тут же поняла, что скорее предпочтет напряженную, враждебную тишину этой бесчувственной болтовне. Смерть, честная и откровенная, казалась предпочтительнее смерти, маскирующейся под глупую жизнь. Лестер напряженно выпрямилась, движение получилось почти вызывающим. Теперь они обе молчали. Наконец Лестер услышала рядом с собой тихий, странный звук. Она повернула голову и увидела, что Эвелин сидит и плачет так же, как» недавно — недавно? — плакала сама Лестер: слезы катятся по лицу, а рот кривится почти беззвучно. Эвелин трясло, зубы у нее постукивали, именно этот звук и услышала Лестер.
Раньше она начала бы раздражаться или сочувствовать. Наверное, и сейчас она могла бы реагировать так же — но не реагировала никак. Вот она, Эведин, причитающая и рыдающая — да, Эвелин, причитает и рыдает.
Ну и что? Она отвернулась. В небе густели сумерки следующей ночи. Солнца не было, так что закатываться было нечему. Луна была, но какая-то другая — она почти не давала света. Она висела в небе, огромная, яркая и холодная, но лунного света на земле не было. В домах зажглись и погасли огни. Становилось определенно темнее.
Рядом с ней снова послышались причитания, рыдания стали еще отчаяннее. Лестер смутно припомнила, что раньше подобные вещи раздражали ее — людей, не умеющих сочувствовать по-настоящему, часто раздражают чужие страдания. Теперь же этого не было. Она ничего не сказала, она ничего не сделала. Она не могла совсем забыть об Эвелин, и в голове невольно проступили воспоминания об их совместном прошлом. Она знала, что никогда по-настоящему не любила подругу, Эвелин была ее привычкой, чем-то вроде наркотика, которым она заполняла пустые часы. Эвелин почти всегда делала то, чего хотелось Лестер. Она могла посплетничать о вещах, которые Лестер не очень-то хотелось обсуждать, зато хотелось услышать из чужих уст, потому что тогда можно было и слушать, и презирать их одновременно. Она держала Лестер в курсе всех происшествий. Она приходила, потому что ее приглашали, и оставалась, потому что в ней нуждались. Они часто появлялись вдвоем, потому что обеих это устраивало. Вот и в тот день они хотели встретиться возле станции, потому что обеих это устраивало; а теперь они были мертвы и сидели на скамейке в парке потому, что это устраивало кого-то еще — кого-то, кто просмотрел поломку в самолете или не справился с управлением; или просто весь этот Город, за фасадами которого таилась завораживающая пустота, притянул их сюда, в это место.
По-прежнему уставившись в быстро сгущавшуюся темноту парка, Лестер думала о Риуарде. Если Ричарда ужаснул ее вид — не слезы и стоны, конечно, скорее уж немота и твердость — могла ли она поправить дело? Пожалуй, что нет. Но ведь могла же она, точно могла, крикнуть ему. Наверное, он бы ответил. Но думать об этом почему-то не получалось: слишком болезненно отзывались мысли в голове. Его здесь не было и быть не могло. Что ж… Боль не стихала, но она уже начала привыкать к ней. Она знала, что привыкнуть придется.