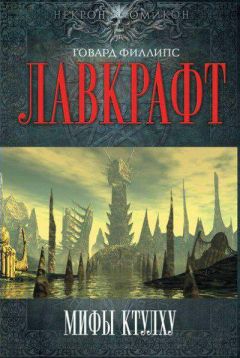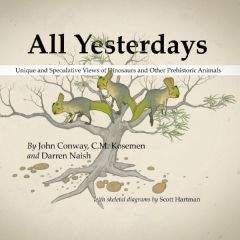Вскорости после того, как доктор Стюарт «принял Джулиана к себе», я начал изучать братнины звездные карты, как астрономические, так и астрологические, и глубоко зарылся в его книги об оккультных науках и искусствах. В течение того периода я прочел немало специальной литературы и подробно ознакомился с трудами Фермольда, Леви,[6] Принна и Джезраэля, и — в неких темных закоулках Британского музея — я содрогался, погружаясь в литературные безумствования Магнуса, Глиннда и Альхазреда. Я прочел «Текст Р’льеха» и «Повествования Йохансена», изучил легенды о затонувших Атлантиде и Му. Я корпел над рассыпающимися от старости томами в частных коллекциях и отслеживал все источники океанических легенд и мифов, с которыми сталкивала меня судьба. Я прочел рукопись Эндрю Фелана и показания Эйбела Кейна, свидетельство Клерборна Бойда, изложение Нейланда Колума и повествование Горвата Блейна. Моему недоверчивому взгляду предстали бумаги Джефферсона Бейтса, и ночами я лежал без сна, размышляя о предполагаемой судьбе Еноха Конджера.
Мог бы и не трудиться, на самом-то деле.
Все вышеупомянутые изыскания заняли чуть ли не год, но и по завершении их я ничуть не приблизился к разгадке тайны безумия моего брата. Нет, наверное, это не совсем так. По зрелом размышлении я решил, что вполне возможно сойти с ума после того, как побродишь по этаким темным дорогам: особенно такому человеку, как Джулиан, который изначально отличался повышенной впечатлительностью. Однако ж такой ответ, как мне казалось, был далеко не полон. В конце концов, Джулиан интересовался эзотерикой всю свою жизнь, и я по-прежнему не видел причины, с какой стати интерес этот внезапно принял столь пугающий размах. Нет, я пребывал в уверенности, что все началось с того сна на Сретение.
Но в любом случае год прошел не напрасно. Я по-прежнему ни во что такое не верил — ни в темные реликты стародавних времен, великих древних богов, что ждут в океанской пучине, ни в нависшую над человечеством опасность в обличье кошмарных морских жителей, ровесников начала времен, — как мог я в такое поверить и сохранить здравый рассудок? Но по части темных тайн исконной Земли я стал настоящим знатоком. А некоторые аспекты моего странного исследования меня не на шутку заинтересовали. Я имею в виду то, что прочел о поразительно похожих случаях Джо Слейтера, бродяги с Кэтскиллских гор в 1900–1901 годах, Натаниэля Уингейта Пейсли из Мискатоникского университета в 1908–1913 годах и Рэндольфа Картера из Бостона, чье исчезновение в 1928 году было тесно связано с необъяснимым явлением Свами Чандрапутры в 1930 году. Правда, я изучил и другие примеры предполагаемой одержимости демоном — все столь же неоспоримо засвидетельствованные, — но те, что я упомянул, кажутся особенно значимыми — слишком уж близко они соответствуют ужасному случаю с моим братом, рассмотрением которого я и занимался.
Время пролетело быстро; однажды июльским утром 1963 года я обнаружил в почтовом ящике письмо от доктора Стюарта с сообщением о том, что Джулиан стремительно идет на поправку, — и каким же нежданным потрясением, исполненным, впрочем, облегчения и радости, оно для меня явилось! Вообразите мое изумление и ликование, когда, приехав в Лондон на следующий же день и отправившись прямиком в приемную доктора Стюарта, я обнаружил, что психическое здоровье моего брата — насколько можно было судить за время столь недолгое — полностью восстановилось. Собственно говоря, доктор сам сообщил мне по прибытии, что Джулиан совершенно поправился — поправился всецело и полностью едва ли не за одну ночь. Однако я не был в том столь уверен: мне все еще мерещились одна-две аномалии.
Однако, не считая этих нескольких мелочей, улучшение в состоянии брата наблюдалось воистину грандиозное. Когда я видел брата в последний раз — всего-то какой-нибудь месяц назад! — от неизмеримой глубины его бреда мне сделалось физически дурно. В тот раз я постоял рядом с ним перед зарешеченным окном, сквозь которое, как мне рассказывали, он целыми днями слепо глядит на север, и в ответ на мое тщательно обдуманное приветствие Джулиан произнес: «Ктулху, Отуум, Дагон; Глубоководные во Тьме; все грезят во сне, дожидаясь пробуждения…» Кроме этой бессмысленной мифологической тарабарщины, мне так и не удалось тогда ничего от него добиться.
Что за благая перемена! На сей раз он сердечно со мной поздоровался — хотя мне и померещилось, будто узнал он меня не сразу, — и, радостно потолковав с ним какое-то время, я пришел к выводу, что, насколько я могу судить и если не считать одной-единственной новой странности, передо мною — тот же самый человек, которого я знал до злосчастного приступа. Упомянутая идиосинкразия состояла всего-то-навсего в том, что у Джулиана развилась престранная фотофобия и теперь он носил громадные, закрытые защитные очки с темными линзами, не позволяющими увидеть его глаза даже сбоку. Но как обнаружилось впоследствии, даже этим загадочным очкам было свое объяснение.
Пока Джулиан готовился к возвращению в Глазго, доктор Стюарт позвал меня к себе в кабинет, чтобы я подписал необходимые документы на выписку, и рассказал мне о чудесном выздоровлении моего брата. Выяснилось, что однажды утром, лишь неделю назад, зайдя в палату к своему необычному пациенту, доктор обнаружил, что Джулиан с головой забился под одеяло. И отказывался даже нос высунуть наружу, равно как и не позволял снять с себя одеяло до тех пор, пока доктор не согласился принести ему эти самые очки с темными линзами. При всей странности этой приглушенной просьбы, потрясенный психиатр возликовал: впервые после начала лечения Джулиан продемонстрировал некий осознанный интерес к жизни.
Очки оказались на вес золота: с их появлением Джулиан стремительно прогрессировал до нынешнего нормального состояния. Доктора удручало лишь одно: на сегодняшний день Джулиан категорически отказывался расстаться с очками, он просто-напросто уверял, что свет режет ему глаза! Однако ж, до известной степени, как сообщил мне достойный доктор, этого следовало ожидать. За время долгой болезни Джулиан настолько выпал из привычного мира, что его органы чувств за ненадобностью отчасти атрофировались — в буквальном смысле слова перестали функционировать. Выздоровев, он оказался в положении человека, который, долго просидев в темной пещере, внезапно обрел свободу и вырвался в яркий и солнечный внешний мир. Этим же отчасти объяснялась и некоторая неуклюжесть, сопровождавшая каждое движение Джулиана в первые дни после его выздоровления. Один из ассистентов доктора к слову заметил, как странно мой брат обвивал руками предметы (причем даже самые мелкие!), которые хотел поднять или рассмотреть поближе, — как если бы позабыл, для чего существуют пальцы! А еще поначалу пациент не столько ходил, сколько ковылял вперевалку, на манер пингвина, и его новообретенные способности к осмысленному выражению мыслей порою самым странным образом отказывали — и речь его деградировала до гортанной, шипящей пародии на английский язык. Но все эти аномалии исчезли уже спустя несколько дней, и нежданное выздоровление Джулиана осталось полной загадкой — точно так же, как и сама болезнь.