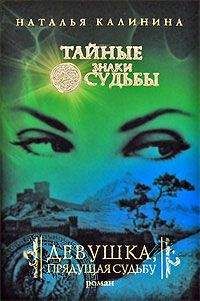— И я — тебе, — от всего сердца обещает Катя.
И Закрывающий пути, владыка мертвых тупиков и перекрестков хохочет, зажмурясь и запрокинув голову, хохочет оглушительно, до слез. Катерине остается лишь вжиматься ему в грудь и прислушиваться, надеясь уловить хотя бы подобие пульса. Но в грудной клетке Морехода — ни звука. Бескрайняя, безысходная тишина.
Пускай, думает Катя, пускай. И непонятно, просит ли она вселенную запустить это неживое, стылое сердце — или покорно соглашается с тем, что оно вовек не выйдет из бесконечной диастолы,[7] что Тайгерм был, есть и останется нечистью и нежитью. Самой Катерине все равно, какими словами назовут то, что она собирается делать, ее любовника и ее саму. Она готова к соитию с дьяволом, и никакая прелюдия не скроет пугающей правды. Катю не останавливает даже незнание расклада высших сил: нужна ли смертная женщина падшему ангелу для хитроумных интриг против неба — или ему попросту приспичило.
Мягкое прикосновение к животу чуть ниже пупка не пугает Катерину нисколько — такое знакомое, телесное, мужское, всего лишь эрекция, нерешительные, просящие движения бедер. Тычется, как собака, клянчащая хозяйскую ласку. Кэт молчит, как Мореход и обещал, но Катя слышит ее мысли, поставленные на повтор: «La puta sagrada,[8] puta sagrada, puta…» — вдох-выдох, вдох-выдох, словно пиратка глотнула адского огня вместе с Катериной и теперь тщетно пытается отдышаться. Священная шлюха? Что, действительно? Она, Катя, в роли блудни вавилонской, отдающейся на алтаре верховным божествам, которых христиане сочли злейшими из демонов? Ай, бросьте.
Зачем эти красивости, когда всё так просто и обыденно: движения бедер становятся настойчивей, хватка — жестче, запахи — гуще и горячей; дыхание объединяет рты, бессвязный шепот глушит мысли, твоя нога обвивает его ногу, будто лиана, его ладонь обжигает твою ягодицу, точно лошадиный круп клеймит. Ничего торжественного, ничего священного, ничего тайного. Торопливый ответ тела на голос плоти, подвывающий внизу живота: дай, дай, дай, накорми. Скорее, снимай, срывай, выпутывайся, избавляйся от всего — от одежды, от стыда, от образа и подобия человеческого. Они тебе больше не понадобятся, пока ты здесь, со мной, пока мир-химера фокусируется на наших сплетенных телах — фокусируется до того, что обретает вкус сотворения, самый сладкий вкус на свете. Мы и есть центр вселенной, это в нас не верят физики-святотатцы, это от нас во все стороны разлетаются галактики, как вспугнутые вороны, это в нас в конце времен вернется умирающий мир, сжавшись в горчичное зернышко.
Катерина стискивает коленями норовистые мужские бедра, скрещивает лодыжки на пояснице любовника, ртом ловя прерывистое, неглубокое дыхание, бездумный шепот: puta, puta sagrada para mi,[9] puta, puta… Тайгерм груб, тороплив, вламывается в Катино тело так, словно ждет, что через минуту их прервут и все закончится, уже навсегда. И оказывается прав.
Молния, ударившая Мореходу в спину, пронизывает не только его тело. Малая толика небесного огня достается Кате — и она, ослепнув и оглохнув, ощущая текущую по нервам муку, колотится под обмякшим Тайгермом. В эту самую секунду с нее снимают кожу, выжигают внутренности, конечности сводит так, что едва не выламывает из суставов — и сразу растягивает до воя, точно кто-то вращает колесо дыбы, к которой привязаны они оба, преступники, обреченные на божью кару, на искупление грехов своих, прошлых и будущих.
— Прости, прости, — бормочет Уриил и тащит ее, голую и обессиленную, из-под тела любовника. — Так надо было, он же тебе ребенка делал, антихриста, ты должна меня понять, я не мог допустить…
— Как-к-к-хого ребенк-кха?.. — выкашливает Катерина. — Кх-хретины…
Хрип тянется из горла нитками вязкой слюны, смешанной с кровью, дурнота смаривает Катю, будто тяжелый сон на солнцепеке.
А ты думала, это всего-навсего секс? Секс с падшим ангелом? — оживает в Катином мозгу Кэт, Глазик, вся гребаная орда палачей, дознавателей, убийц податливой женской сути. Но Катя не боится. Она больше не боится ни себя, ни за себя. Катерина хочет вернуться к Мореходу, обнять его, свернувшегося клубком от нестерпимой боли, забрать себе весь его ад, внутренний и внешний, заплатить собой вместо него — за все. За все. Но ее волокут прочь, заматывают в какие-то тряпки, обливают водой, ледяные струи стекают по шее и груди, точно кубло змей, затыкают вопящий рот, обрывая на полуслове, на полу-имени: Та-а-ай…
— Пусти меня, пусти-и-и! — надрывается кто-то. Апрель? Наама? Сама Катя? Мир вокруг блаженно меркнет.
* * *
Китти, словно львиноголовая демоница Ламашту[10] поднимается из подземного мира. Шепот мертвых сопровождает ее на пути: «Она зловеща, она упряма, она богиня; ужасна она. Ее волосы распущены, ее груди обнажены. Ее руки перемазаны кровью и плотью. Она без спроса проникает через окно, она ползает как змея. Она пробирается в дом, и снова его покидает» — и Китти, вовсю переигрывая, прогибается в спине, выставляет зад, скалит желтоватые клыки, буравит Катю взглядом, намекая на что-то, загнанное в самые непроглядные уголки подсознания и запертое там крепко-накрепко.
Чего тебе? Чего? — хочется крикнуть Кате. Чего ты ждешь от меня, дрянь, стерва, гадина, Лилит?
— Ты знал, что так и будет! — голос над Катиным ухом гудит, будто медный гонг, растекается тягучим эхом. Катерина пытается понять, кто говорит — и не может. Слышит только: то глас ангельский — глубокий, пугающий тембр, от которого поднимаются волоски по всему телу и дрожь прошивает позвоночник. Тайгерм? Уриил? Который из них? — Заживо сжечь ее задумал?
Ясно, это хранитель Эдема отчитывает владыку преисподней. Из-за нее, Кати. Не умирай она от слабости — непременно умерла бы от гордости. Катерина без всяких усилий притворяется бесчувственным телом.
— В прошлый раз не сжег, — огрызается в ответ Катин несостоявшийся любовник, — и сейчас бы пощадил.
Прошлый раз? Какой прошлый раз? Катя обшаривает свою память, точно захламленные кладовые. К кладовым Кэт даже приближаться не хочется, но их с Мореходом прошлый раз наверняка спрятан именно там. Сознание Шлюхи с Нью-Провиденса стыдливо безмолвствует. Ничего не хочешь мне рассказать? — раздраженно спрашивает Катерина про себя. Кэт продолжает молчать, давя самодовольную ухмылку Китти в зародыше.
— Оставь ты ее сыну адамову, оставь, — убеждает Тайгерма Уриил. — Как брата прошу, прошу, слышишь?
— Мечом поперек спины просишь? — ехидно осведомляется Мореход. — Новое слово в ангельской дипломатии?
— Зачем ты вмешиваешься в их отношения? — не поддается на провокацию ангел. — Почему не предоставишь выбор людям?