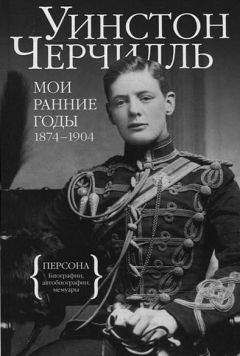Без четверти десять она откланялась, и мужчины остались вдвоем. Джад молчал, заглядевшись на сигаретный дымок — так малец вглядывается в змейку пестрой ленты, обвивающей ярмарочный столб: где ж она кончается?
— Стенли Бушар… — вкрадчиво напомнил Луис.
Джад часто заморгал, отрешаясь от своих мыслей.
— Ах, да! У нас в округе его все называли Стенни Б… Так вот, когда мой Пестрый умер в 1910-м, то есть умер в первый раз, Стенни Б. уж стариком был и чуток не в себе. Про индейский могильник многие знали, но мне-то Стенни Б. рассказал, а ему — отец. Они сами-то из канадских французов. — Джад усмехнулся, отпил пива. — Так и слышу, как он на ломаном английском лопочет. Однажды встретил меня за извозчичьим двором — в ту пору нынешнего-то шоссе и в помине не было, а сейчас там завод стоит. Мой Пестрый последние минуты доживал, вот отец из дома меня и выгнал, вроде по делу — корму для кур купить. Только это видимость одна. Я-то сразу смекнул — почему.
— Собирался пристрелить пса, чтоб не мучился?
— Да, знал ведь, как я Пестрого люблю вот и отослал меня подальше. Ну, выполнил я отцово поручение, сел на старый жернов да и заревел. — Джад сокрушенно покачал головой, едва заметно улыбнулся. — А тут, глядь, Стенни Б., собственной персоной. Кто его недоумком считал, кто просто хулиганом. Дед у него мехами промышлял, как поговаривали. Был у него фургон большущий, весь обтянут полосками кожи, точно бинтами перевязан. Истый христианин был дед, все о Воскресении толковал, даже во хмелю. Это уж я со слов Стенни Б. рассказываю. Любил он деда вспомнить — и все ж многого он набрался от индейцев-язычников. Он твердил, что все индейцы от одного племени произошли, от народа Израилева, о котором в Библии написано. Может, говорит, Господь на них и прогневался, да только чудес у индейцев — хоть отбавляй, потому что они-де христиане, только шиворот-навыворот. Дед Стенни Б. у них меха скупал, дольше всех с ними торговал, потому как все у него по справедливости, да и из Библии он часто по памяти читал, а индейцы рады-радешеньки, помнят еще, что им в давние времена монахи в черных сутанах рассказывали, задолго до того, как охотники да лесорубы в их краях объявились. — Джад помолчал, Луис удержался от расспросов. — Вот индейцы-то, микмаки эти самые, и рассказали деду о могильнике. А забросили они его потому, что злой дух там землю опоганил. И о песках зыбучих рассказали, и о каменных ступенях, все, в общем. В те времена о злом духе Вендиго по всему северу сказания ходили. Вроде как у нас в Библии, тоже о чудесах всяких. Услышь меня сейчас Норма, безбожником бы обозвала, но, ей-ей, все, что говорю, — правда. Выпадали зимы холодные да голодные, и тогда индейцы приходили туда, где совсем худо, и… всякое непотребство чинили.
— Вы имеете в виду… людоедство?
— Не без этого. Да кто знает? — пожал тот плечами. — Может, они выбирали уже вконец ослабших или старых, тем и пробавлялись. А как бы в оправдание придумали легенду о том, что ходит по ночам средь них Вендиго, и к кому притронется, тот делается кровожадным людоедом.
Луис кивнул.
— Ну да, бес попутал.
— Вот-вот. Мне-то сдается, что и здешние индейцы человечинки отведали, а кости закапывали в том же могильнике.
— А потом бросили, дескать, злой дух землю опоганил, — проговорил Луис.
— Так вот, значит, Стенни Б. завернул в тот день на задки извозчичьего двора, чтоб выпить. В ту пору он уже свихнулся. Дед-то толковым был, говорят, в миллионщики выбился, а вот внук побирался. Подходит ко мне. Что, спрашивает, стряслось? Ну, я рассказал. Увидел он, что я белугой реву, наверное, сжалился, говорит, твоей беде можно помочь, нужно только захотеть и ничего не бояться. Да я, говорю, ради Пестрого ничего не пожалею. А вы что, ветеринара хорошего знаете? Никаких ветеринаров, отвечает, собаку твою и так можно оживить. Иди домой, попроси, чтоб отец ее бросил в мешок — будто бы похоронить, — а сам тащи ее на Кошачье кладбище и мешок положи прямо у кучи валежника. Вернешься домой, скажешь, так и так, похоронил. Я, конечно, ничего не понял, начал Стенни расспрашивать, а он одно талдычит: ночью глаз не смыкай, я, говорит, в твое окошко в полночь камушком брошу. Тогда выходи. А проспишь — пеняй на себя, знать тебя больше не знаю, и собаку тебе не воротить. Прямиком в ад провалится. — Джад закурил, взглянул на Луиса. — Как Стенни сказал, так я и сделал. Отец, когда я вернулся домой, признался, что пристрелил Пестрого — чтоб не мучился, и сам предложил мне его похоронить: дескать, Пестрому была бы по душе последняя забота хозяина. Сунул я, значит, пса в мешок — и на Кошачье кладбище. Отец было подсобить предложил, да я отказался — помнил наказ Стенни Б. В ту ночь глаз не сомкнул, все дождаться не мог, а время медленно ползет. Думаю, уж утро вот-вот забрезжит, глядь на часы — всего десять вечера, потом одиннадцать. Я клевать носом начал, и всякий раз меня будто кто за плечи встряхивал. «Проснись, Джад, проснись!» Будто какая сила заснуть не давала. — И старик пожал плечами.
Луис гадательно поднял брови.
— Вот пробили часы двенадцать, я мигом оделся, сижу, жду. В окно луна вовсю светит. Стенни все нет. Половина первого, час. Забыл, что ли, полоумный лягушатник! Чуть было не разделся да в постель опять не нырнул, как — тук! тук! — два раза в окошко камушком, едва стекло не разбил, слава Богу, трещина малоприметная, мать до зимы не увидела. Я — мигом к окну, поднял раму, а она скрипит, грохочет (это мне так казалось, мальцом ведь был)…
Луис рассмеялся. Хотя не припомнил в своем детстве, чтоб ему в полночь из дома хотелось сбежать. Впрочем, и захоти он в свои десять лет, наверное, и ему бы казалось, что податливая и бесшумная днем оконная рама не поддается и грохочет ночью.
— Ну, думаю, мои старики решат, что воры лезут, — продолжал Джад. — Выждал минуту-другую, сердце вроде унялось чуток. Слышу: отец в спальне внизу похрапывает. Выглянул в окно: стоит Стенни Б., шатается, будто ветром его колышет. Он бы, конечно, не пришел, не упейся так, что все равно уже не уснуть — каждые пять минут блевать тянет, а остальное ему до лампочки. И тут он пасть разинул да как заорет (на самом-то деле, наверное, шепотом позвал, да у страха глаза велики): «Ты выйдешь или силком тебя вытаскивать?» Я зашикал на него, трясусь, не ровен час отец проснется — несдобровать мне тогда. А Стенни не разобрал, еще громче вопит: «Чего, чего? Не слышу!» Будь у моих стариков спальня со стороны дороги, непременно бы проснулись, но они в глубине дома спали, где мы сейчас с Нормой, и окно на речку выходит.
— Небось вниз по лестнице летели как на крыльях, — улыбнулся Луис. — А пивка еще не найдется?