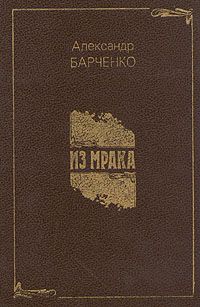— До угла вместе. Ты на трамвай?
Шли рядом, оба элегантно одетые, сразу было видно, привыкшие к сутолоке огромного города. Серебряков, час назад жалкий, дрожащий, скрюченный, сразу переродился в приличном костюме, двигался свободно, уверенно, разом распрямившийся телом, жестом настоящего «бульварде» перекинул через руку новое пальто, чуть покосил набекрень мягкую плюшевую шляпу.
Беляев крикнул на углу порядком облезлый «таксо».
— Ну, я тебя покидаю. Скорей выбирайся отсюда… Мне ещё в тысячу мест надобно. Сейчас в «Европейскую»… там один э-э-э… старикашка. Да. До свидания, голубчик.
— Вася. Я тебя и не поблагодарил, как следует.
— А ну тебя! Шофёр. «Европейская» гостиница. На Михайловскую.
Откинулся в глубину кареты, с довольной улыбкой следил, как товарищ, широко шагая через подсохшие лужи, направлялся к трамваю.
Но улыбка скоро сбежала.
Напряжённая складка, складка смущённого ожидания, затаённого беспокойства, быть может стыда, очертила губы.
Нетерпеливо выглядывал, считая переулки. Бросил шофёру сдачу, не считая. Почти вбежал в подъезд фешенебельной гостиницы. Перед тем как захлопнуть клетку лифта, спросил министроооразного швейцара по-французски:
— Леди Джексон у себя?
Ещё недавно здесь, между озером и петлями извилистой бурливой реки, была плотная тёмно-зелёная щётка густого хвойного леса.
Лес был отборный, нетронутый, с голыми гладкими могучими стволами, с суковатыми руками высоко вверху, так высоко, что шапка валилась с затылка, если следить за чьими-то глубокими синими глазами, прикрытыми белой повязкой облаков, пристально вглядывавшимися вниз, в просветы кроны.
В бури звонким выпуклым звоном переговаривались верхушки, а у корней было тихо, как в церкви, только сыпалась хвоя тихонько сверху и устилала землю плотным и скользким ковром да сучок изредка, посуше, обломившись вверху, падал, крутясь, стукая о стволы, цеплялся за кору и долго кивал чёрным корявым пальцем, раскачиваясь.
Вечером, после заката, кто-то, призрачный, тёмный, бегал от дерева к дереву, прятался за стволы, расстилал у корней синие тени, и лес тогда был похож на огромный таинственный храм с бесконечными рядами стройных мраморных розово-жёлтых колонн.
Весной, когда набухали и синели снега, здесь можно было слышать гортанное, туго натянутое бормотанье глухаря. По зимам, в морозы, рябчики камнем падали с верхних ветвей, пробивали обледеневший наст, зарывались в пушистый снег на ночлег, под ледяной крышей.
Здесь неслышно и важно проходили вереницей с болота в далёкий ольшаник непуганые лоси.
Здесь можно было слышать редкую вещь, о которой спорят горожане с лесниками-охотниками, слышать, как медведица пугает лошадей и скотину, свистит страшным свистом, засунувши в рот мохнатые пальцы, по-человечьи.
Только человека здесь видели редко.
Больше зимой, когда скованы зыбкие топи, когда путника кто-то, благословляя, окропляет сверху острым звенящим инеем, тогда только здесь, прямиком, на соседний погост проторяли узкую тропу лёгкие карельские санки. Охотники за белками и горностаем разрисовывали лыжами снег длинными лентами-узорами. Да изредка, с колокольчиком, выплывал из-за волнистых сугробов и засыпей становой пристав либо закутанный батюшка — на требу…
А летом иногда испуганно аукались заблудившиеся бабы. Да старикашка карел, сморщенный, жёлтый, с пухом под челюстью, пробирался лесом к реке, на ловлю форелей, спотыкался, скользил в хвое и, прикрыв заросшее ухо дряхлой рукой, долго слушал, где шумит водопад.
Потом сразу появились люди. Много людей…
Сначала через лес зачастили тройки, «впротяжку» — местных станционных ямщиков, и с пристяжными — в городской сбруе.
Кучера последних беспомощно ёрзали на мягких козлах, скверно ругались, призывали на помощь «святителей», кончали тем, что с трудом отцепляли обжигавшие на морозе руки крючья вальков и бечёвкой прилаживали постромки к оглоблям.
Староста-карел не снимал с груди бляхи, отчищенной мелом, лавочник — самовара с прилавка, а попадья из епархиалок, изнывавшая на засыпанном снегом и хвоей погосте, шёлкового зелёного платья, модного, дорогого, по последнему зимнему журналу — приложение к «Ниве» за 1898 год.
Необычайные гости на погосте были необычны и по виду.
В тонких, чуть подбитых разрисованным мехом пальто с воротниками шалью — душа нараспашку, в пушистых шарфах, котелках и цилиндрах, они боязливо ступали по ломкому насту лакированными ботинками в замшевых гетрах, прятали озябшие руки в карманы, особо прорезанные на груди, платили за кипяток и молоко баснословные цены и переговаривались на незнакомом языке, который матушка, разобравшая слово «тужур», тотчас безошибочно определила за французский.
Все эти люди особенно интересовались бурливой речонкой, не годной ни для сплава, ни для правильной ловли, так как водопад бил и щепил брёвна, а коряги и камни пороли сети.
Спрашивали, до какого места пересыхает речонка летом, замерзает ли зимою водопад.
Потом снова надолго затихло вокруг погоста. Староста снял свою бляху, и матушка с грустью уложила в сундук шёлковое платье.
Потом вспыхнула на погосте сказочная новость.
Старикашка карел, тот самый, что жил ловлей форелей и лохов в водопаде, получил массу денег. С ужасом, шёпотом называли цифру — пятнадцать тысяч. Получил и уехал в город и запил и сошёл с ума.
И умер в городской больнице.
А за деньгами приехал из Выборга сын с женой-финкой, беззубой, курносой и жёлтой. Получил в суде деньги и снова исчез, и никто не знал, где он, как не знал до того сам покойник отец.
Тогда вспомнили все на погосте, что за старикашкой карелом ещё при царе-горохе был закреплён водопад и десятин пять мхов, заваленных зелёным от плесени гранитом.
Выпал снег, и застучали топоры в лесу. Сначала далеко — только в оттепель долетали до погоста дробные звуки. Потом ближе заревел гудок локомобиля. Через погост потянулись со станции подводы с частями диковинных машин, с механиками в тёплых заграничных куртках с выпушкой перистого меха под горлом. Старый плотник Илья повстречал у околицы знакомого возчика, чему-то удивлялся, недоверчиво переспрашивал:
— О?.. Рупь семь гривен?..
И наутро, чем свет, с сумкой и топором за плечами скрылся в лесу.
И когда сошли снега и всосали влагу зыби торфяников, когда рыболовы с погоста с сачками отправились за нерестящейся под берегом рыбой, они не узнали знакомых мест. И с горы, сквозь широкую просеку, увидели наголо оплешивевший холм — прежде под строевым лесом, длинный ряд телеграфных столбов, звенящих новой проволокой, и за извилинами реки, у водопада, разноцветные бородавки кирпичных зданий и новых золотистых срубов.