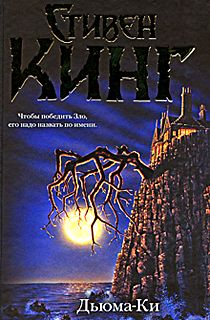— То есть?
— То есть я знаю, какие они. Психи. Я знаю Дьюму и собираюсь получше узнать тебя. У меня нет никаких сомнений в том, что ты видел своего мёртвого друга.
— Честно?
Абсолютно. Verdad.[63] Вопрос в том, что ты собираешься с этим делать, при условии, что ты не горишь желанием увидеть, как твоего приятеля зарывают в землю за… или это вульгарно?., за то, что он намазывает масло на твою бывшую краюху хлеба.
— Нет. На мгновение у меня возникло желание… даже не знаю, как описать…
— На мгновение у тебя возникло желание отрубить ему член, а потом вытащить глаза длинной такой вилкой для поджаривания хлеба на огне. Причём раскалённой. Такое у тебя возникло желание, мучачо? — Уайрман нацелил на меня пистолет, сооружённый из большого и указательного пальцев правой руки. — Я был женат на одной мексиканской крошке, поэтому знаю, что такое ревность. Это нормально. Естественная первая реакция.
— Твоя жена когда-нибудь… — Я осёкся, вдруг вспомнив, что познакомился с этим мужчиной всего лишь днём раньше. Забыть об этом не составляло труда. Уайрман умел сближаться с людьми.
— Нет, амиго, насколько мне известно. Что она сделала, так это умерла. — Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. — Давай в это не углубляться, идёт?
— Конечно.
— О ревности нужно помнить одно: она приходит и она уходит. Как здесь — послеполуденные ливни в плохой сезон. Ты говоришь, что это пережил. Так оно и должно быть. Потому что ты больше не её campesino. Вопрос в другом: что тебе делать в сложившейся ситуации? Как ты собираешься помешать ему покончить с собой? Потому что ты знаешь, что произойдёт по завершении этого счастливого семейного круиза, так?
Какое-то время я молчал. Переводил его последнее испанское слово, или пытался перевести. Теперь ты не её пахарь? Правильно? Если да, то в его словах была горькая правда.
— Мучачо? Твой следующий ход?
— Не знаю. У него есть электронная почта, но что я ему напишу? «Дорогой Том, я тревожусь из-за того, что ты намереваешься покончить с собой, пожалуйста, ответь как можно скорее?» Готов спорить, в отпуске он всё равно не будет проверять свой почтовый ящик. Он разводился дважды. Последней жене ещё платит алименты, но отношений ни с одной не поддерживает. У него был один ребёнок, умер в младенчестве, если не ошибаюсь, спина бифида[64]… и… Что такое? Что?
Уайрман отвернулся, сидел, сгорбившись, смотрел на воду, где пеликаны устроили своё чаепитие. Язык его тела говорил: отвратительно.
Он повернулся ко мне.
— Хватит увиливать. Тебе чертовски хорошо известно, кто может с ним поговорить. Или ты думаешь, что тебе известно.
— Пэм? Ты про Пэм?
Он только смотрел на меня.
— Ты собираешься что-то сказать, Уайрман, или так и будешь сидеть?
— Я должен проверить мою даму. Возможно, она уже встала, а в четыре часа будет пить чай.
— Пэм подумает, что я рехнулся! Чёрт, да она уже думает, что я рехнулся!
— Убеди её. — Тут он чуть смягчился. — Послушай Эдгар, если она так близка с ним, как ты думаешь, она что-то заметила. И всё, что ты можешь сделать, так это попытаться. Entiendes?[65]
— Я не понимаю, что это значит.
— Это значит, позвони своей жене.
— Она — моя бывшая жена.
— Нет. Пока твоё отношение к ней не изменится, развод — всего лишь юридическая фикция. Вот почему тебе небезразлично, что она думает о состоянии твоего рассудка. Но если тебе дорог этот парень, ты ей позвонишь и скажешь, что у него есть намерения покончить с собой.
Уайрман поднялся с шезлонга, протянул руку.
— Довольно разговоров. Пойдём знакомиться с боссом. Ты не пожалеешь. Если уж говорить о боссах, она очень даже ничего.
Я взялся за его руку и позволил ему вытащить меня из шезлонга, который, как я понял, заменил сломанный. Хватка у него была крепкая. Если что и останется у меня в памяти об Уайрмане, так это его крепкая хватка. Мостки вели к воротам в задней стене. Ширина позволяла идти по ним только одному, так что я хромал следом. Когда мы добрались до ворот (уменьшенной копии тех, что выходили на дорогу, и испанского в них было не меньше, чем в отдельных словечках Уайрмана), он повернулся ко мне, его губы разошлись в улыбке.
— Хози приходит прибираться по вторникам и четвергам, и она не возражает против того, чтобы присматривать за мисс Истлейк, пока та спит днём. То есть завтра я могу прийти и взглянуть на твои картины, скажем, около двух, если тебя это устроит.
— Как ты узнал, что я этого хочу? Я всё ещё собирался с духом, чтобы попросить тебя.
Уайрман пожал плечами.
— Совершенно очевидно, что тебе хочется, чтобы кто-нибудь взглянул на твои картины до того, как ты повезёшь их этому парню из галереи. Помимо твоей дочери и юноши, который у тебя на побегушках.
— Встреча назначена на пятницу. Я в ужасе. Уайрман помахал рукой, улыбнулся.
— Не волнуйся. — Пауза. — Если я решу, что твои картины — дерьмо, я тебе так и скажу.
— Меня это устроит. Он кивнул.
— Просто хотел прояснить этот момент. — Он распахнул ворота и провёл меня во двор гасиенды «Гнездо цапли», известной также как «Palacio de Asesinos».
Я уже видел этот Двор, когда разворачивался в открытых воротах, но в тот день я только мельком взглянул на него, потому что думал об одном: как бы поскорее довезти до «Розовой громады» и себя, и дочь с посеревшим, блестящим от пота лицом. И теннисный корт я тогда заметил, и керамические плитки, а вот пруд с золотыми рыбками — нет. Корт, тщательно подметённый, с твёрдым покрытием цветом чуть темнее плиток двора, ждал выхода игроков. Оставалось лишь натянуть сетку одним поворотом хромированной ручки. Корзинка с мячами на сетчатой подставке заставила меня вспомнить о рисунке, который Илзе увезла в Провиденс: «Конец игры».
— Придёт день, мучачо, — Уайрман указал на корт, мимо которого мы проходили. Он замедлил шаг, так что я его догнал, — когда мы с тобой придём сюда. Я не буду ставить перед тобой сложных задач, только отбивай и подавай, не сходя с места, но мне так хочется помахать ракеткой.
— Отбивать и подавать — та цена, которую мне придётся заплатить за твою оценку моих картин?
Он улыбнулся.
— Цену я назову, но она другая. Я тебе скажу. Пошли.
Уайрман провёл меня через чёрный ход. Оставив позади темноватую кухню с большими белыми столами для готовки и огромной плитой «Вестингхауз», мы оказались непосредственно в жилых помещениях, поблёскивающих тёмным деревом: дубом, грецким орехом, тиком, секвойей, кипарисом. Это был Palacio, построенный в старинном флоридском стиле. Мы миновали комнату, уставленную стеллажами с книгами, в углу о чём-то размышляли рыцарские доспехи. Библиотека выводила в кабинет, стены которого украшали картины, не тёмные портреты маслом, а яркие абстракции, даже парочка оп-артов,[66] от которых глаза вылезали из орбит.