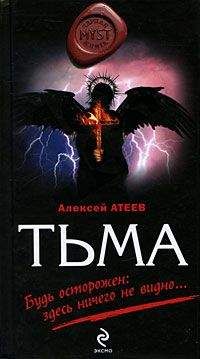– Эй, вы! Что это тут делать собрались? – неожиданно раздался голос из толпы.
Действо затормозилось.
– А это еще кто вякает? – холодно спросил Костя, вглядываясь в лица.
– Ну я, – из толпы выступил Плацекин. – Ты чего это, гад, удумал?
– Кто гад?! Я?! Вы слышали, как этот чуфырь обозвал городского голову? Ты, мент позорный, следующий на очереди.
– Какой ты, к едреной матери, городской голова?! – не сдавался майор. – Самозванец и вор – вот ты кто! Прекратить самоуправство! Это незаконно! И приказ твой незаконен, поскольку противоречит государственным постановлениям. У нас в стране закон один для всех. Существует уголовный кодекс, и в нем ни слова нет о телесных наказаниях. То, что ты делаешь, прямое нарушение закона, и ты за это поплатишься, как уже один раз было. Ишь, что придумал, – людей пороть!
– Все сказал, мусор? – с недоброй улыбочкой поинтересовался Костя. – А ведь ты с ним заодно. Сотоварищ, получается. Не желаешь прекращать гнилой базар, дело твое. Только и я, как городской голова и походный атаман, приказываю… Эй, хлопцы, выпишите-ка ему пару плюх.
Майора казаки не любили, поскольку не без оснований считали, что и он их не особенно жалует, однако как начальника милиции страшились. Теперь же Плацекин оказался как бы не у дел, то есть спустился с руководящих высот и стал не опасен. Тем не менее бить его не стали, а лишь дали увесистого пинка, чем инцидент и кончился.
А народ все прибывал. Казалось, у Дерева собрался весь Верхнеоральск. Костя заметил: впереди толпы, прямо напротив привязанного к Дереву стоят: Толик Картошкин с перебинтованной головой, его мамаша, близнецы Сохацкие, плацекинская дочка с вытаращенными глазами и еще какой-то незнакомый ему темноволосый парень. Читатель, наверное, догадался, что это был Иван Казанджий.
– Ну, что, – крикнул Гена. – Можно?!
– Действуй, орел, – разрешил Костя.
Плеть, свистнув, врезалась в тело Шурика, оставив на нем розовую полосу. Тот сдавленно вскрикнул. Толпа охнула.
– Раз! – четко произнес дядя Коля и пыхнул трубкой.
Новый удар, новая полоса, а первая из розовой превратилась в багровую.
После пятого удара на спине выступила кровь, после десятого наказуемый повис на веревках и уже перестал стонать, а только тоненько, остро взвизгивал.
– Хватит! – закричали из толпы. – Достаточно!
– Нет, не достаточно, – ответствовали им другие. – Наказывать так наказывать. Херачь его, Геша!
А Гена Соколов действительно старался. Вначале ему казалось: он мстит за умершего сына. И когда кончик ременной плети, в который была вшита свинчатка, рассекал кожу на спине и боках чудотворца, он мысленно повторял: «Вот тебе, гад, за Славика… за Славика…» Но скоро на смену чувству мщения пришло другое. Темное и липкое возбуждение охватило Гену. Вначале он даже не понял смысла своих ощущений. Однако восставшее естество быстро расставило точки над «i». Гена на миг смутился. Он допустил: присутствующие понимают, что с ним происходит, видят бугор у него между ног, однако тут же понял бессмысленность своих опасений. Казачьи шаровары – не джинсы. Они слишком просторны, чтобы что-нибудь заметить, а блеск глаз окружающим не виден. И Геша продолжал… В уголках его губ пузырилась слюна, он тяжело дышал и видел перед собой только неширокую спину, почти сплошь усеянную потеками свежей крови.
Неожиданно Гена почувствовал острейшее, ранее неизведанное наслаждение. Между ног вдруг стало горячо, а потом мокро.
– Тринадцать, – невозмутимо считал дядя Коля. – Четырнадцать…
На восемнадцатом ударе избиваемый потерял сознание. Голова его упала набок, он перестал издавать какие-либо звуки и только вздрагивал всем телом, как лошадь, которую на водопое кусают оводы.
Костя понял, что несколько перестарался с приговором. Даже двадцати ударов этот дохляк не выдержал, а если Гена врежет еще десяток, он, глядишь, загнется. Нужно прекращать мероприятие.
– Слышь, Геннадий, – крикнул он, – будет с него! Кончай! Убьешь еще…
Но Гена уже перестал что-либо соображать. Он хотел пережить куда-то пропавшее наслаждение еще и еще раз. Никогда доселе он не испытывал ничего подобного. Конечно, жена Света регулярно отдавалась ему, но обычно она лежала, как бревно, раскинув руки, и только сопела. А в последнее время в связи со смертью сына вообще прекратила выполнять супружеские обязанности.
– Кончай, Генка! – закричал Костя, видя, что палач вовсе не думает прекращать избиение. – Эй, ребята… дядя Коля… Оттащите этого полоумного.
На Гену навалились соратники. Он тяжело дышал, глаза стали совершенно белыми…
– Обтрухался, похоже, – заметил дядя Коля, уловив запах. – То-то старался.
– Все, граждане, – торжественно произнес Костя, стараясь за бравадой скрыть некоторое смущение. – Дальнейшее наказание отменяется. Объявляю амнистию.
– А вот мы ни тебе, ни Генке наказание не отменяем, – прямо в лицо Косте бросил Толик Картошкин. – Ждите!
Костя поморщился, но оставил картошкинскую реплику без ответа. Казаки нестройно двинулись восвояси. На большинство из них расправа произвела тягостное впечатление. Почти каждый чувствовал себя виноватым в чем-то неопределенном, но очень гадостном.
– Выпить бы нужно, – выразил общую мысль дядя Коля Горожанкин.
Гена шагал с места казни в одиночестве. Его сторонились, как зачумленного. Но Гене в данный момент и не нужно было ничье общество. В мыслях он до сих пор махал нагайкой, еще и еще раз переживая оргазм.
А возле Дерева суетились сострадающие граждане. Шурика отвязали и осторожно, на живот, положили на траву. Подъехала «Скорая помощь». Вылезшие из нее медички, громко ахая, намазали спину какой-то дрянью и хотели везти несчастного в больницу, однако Толик Картошкин и его приятели воспротивились.
– К нам его нужно, – заявил Толик. – В дом… Там и уход ему организуем, и лаской окружим…
Некоторые доброхоты, в том числе, как ни странно, попадья, матушка Вера, предлагали отвезти Шурика к ним, но Картошкин настоял на своем. Шурика на носилках погрузили в «Скорую», туда же втиснулись Толик и его мамаша, и машина тронулась. Народ медленно разбредался по своим норкам.
Подвергнутый надругательству Плацекин тоже отправился домой. На плече у него повисла непрерывно рыдающая Даша.
– Нелюди, нелюди!.. Какие звери! – непрерывно повторяла она.
Любящий отец как мог ее успокаивал. На душе у него тоже было гадостно. Хотя крутившие его казачки особого вреда ему не причинили, тело Плацекина вело себя так, словно его долго и упорно били. Ломило, корежило и схватывали судороги. Пинок, хотя и не причинил особой боли, привел к моральным страданиям. В последнее время его еще никто так не унижал. К тому же майора преследовало ощущение, будто его вываляли в фекалиях. Не было даже злости. Только ощущение непередаваемого омерзения. Ему тоже очень хотелось напиться.