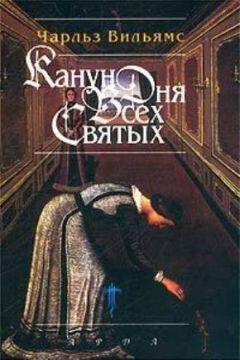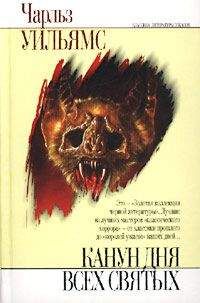Лестер, лежавшая с закрытыми глазами, ощутила перемену. Она почувствовала, как опора обрела устойчивость — теперь она поддерживала ее надежно и безопасно, во всяком случае, вызывала больше доверия. Рядом с собой она услышала тихое дыхание, словно на постели притулился друг, заботливый даже во сне. Она не видела, как замерло обнаженное жало Смерти, как оно отступает, оставляет почти завоеванную высоту. Зато она смогла вытянуть ноги, почувствовала, как они тоже нашли опору, и зевнула изо всех сил. В блаженной полудреме она подумала: "Ну вот, ей и не пришлось никуда уходить", — но не смогла припомнить ни одного своего действия, вспомнила только, как однажды ночью Ричард принес стакан воды и ей не пришлось вставать, чтобы утолить жажду. В блаженном полусне перед ней протянулась длинная череда тех, кто, не задумываясь, делал это для многих ближних и дальних. Нет, они не оказывали любезность, принося воду, они несли собственную радость, а может, и вода, и радость были вместе… Все изменилось, никто больше не думал о бескорыстии, не заботился о нем. Смертный свет земли уходил все дальше, а их свобода становилась все полнее.
Тем не менее она подумала: "Милый, милый Ричард!"
Он принес ей собственную радость, чтобы она выпила, прежде чем снова уснуть, она только теперь почувствовала ее вкус. Радость, заполнившая Лестер сейчас, была сродни той, которой одарил ее Ричард в ту ночь, и всем хорам небесным и птицам земным не дано было воспеть его за это, как подобает. Зато в ее сознании родилось совершенно правильное слово — ах, если бы только она сумела разобрать его сквозь сон — не слишком длинное слово, и очень легкое для произношения, если бы только кто-нибудь подсказал ей, какое. Оно само походило на стакан воды, потому что, если говорить откровенно, в душе она всегда предпочитала воду вину, хотя временами ей доставляло огромное удовольствие выпить с Ричардом и вина, особенно того… она забыла название, но Ричард, конечно, помнил его, он вообще знал намного больше, чем она, кроме вещей, о которых вообще ничего не знал. Это слово, которое было одновременно водой и вином — но ни в коем случае не смесью их обоих очистило ее память, и теперь она могла бы разделить с Ричардом радость общего знания. Теперь они оба могли бы упиваться этим словом в великом покое. Она все думала о слове, оно напоминало имя, имя походило на "Ричард", и немного — на "Бетти", и отчасти — на ее собственное, хотя это и было совсем уж удивительно: она вовсе этого не заслужила. И все-таки слово не было ни одним из этих имен… разве что именем того ребенка, который у них с Ричардом мог бы появиться в один прекрасный день. Они же не собирались тянуть с этим. Он родился бы на постели, похожей на эту, где она так удобно вытянулась. Она не могла понять, почему ложе совсем недавно казалось ей твердым, как дерево, теперь-то она воспринимала его, как мягкую весеннюю лужайку, сплошную весну мира, пробуждение души.
Лестер охватило забытье. Она выполнила задачу и теперь отдыхала в ритме этого мира. Перед ней проплывали видения сна: вот Божественный Младенец прикрыл изумленные глаза, и мать его рядом с ним, и царственный Иосиф, их защитник. Лестер приняла на себя удар проклятья. Да, она не знала, на что идет, но суть совершенного ей от этого не изменилась. Она пострадала вместо Бетти, как Бетти однажды пострадала через нее; но мука была недолгой, а восстановление — быстрым. Так быстро Имя, которое и есть Город, пришло ей на помощь. Когда она снова ощутила себя, то оказалось, что она стоит у постели: мертвенный, бледный свет исчез, а на постели спит Бетти, блистающая истинной красотой, и дышит ровно и с удовольствием.
По другую сторону кровати стоял на коленях Клерк. Едва заслышав постороннюю ноту, он удвоил свои усилия. Ему казалось, что силы его на исходе, но они вот-вот начнут прибывать и будут прибывать до самого конца. Он сумел завершить повтор, в который ворвалась посторонняя нота, но усилие оказалось непомерно велико. Он продолжал заклинать, и по лбу его струился пот. Единственное, чего он достиг, это завершил собственное слово, как хотел, но так и не смог изгнать из него другую песню. Он протянул руку в сторону леди Уоллингфорд и сделал ей знак присоединить к заклинанию свою волю. Тут он сделал глупость. В магии существует мудрейшее правило: если действие пошло не так, адепту надлежит немедленно прервать его. В кругах адовых не прощают ошибок. Он обязан был начать все сначала. Едва увидев перед собой две формы, Клерк должен был остановиться. Даже новичок понял бы, что ход ритуала нарушен вторжением чего-то чуждого. Но маг не внял явному предостережению, он не мог допустить потерю контроля над ситуацией, ведь он заранее считал себя победителем. И он призвал на помощь свою наперсницу, тем самым ступив на не праведный и скользкий путь вниз, увлекавший многих подобных ему. Не раз и не два совершив подобную ошибку, могучие чародеи обращались к помощи своих учеников, слуг, наемников, к ядам и кинжалам, к восковым фигуркам, бормотали убийственные заклятия. Саймон еще не дошел до такого, но все быстрее и быстрее приближался к роковому финалу.
Сара Уоллингфорд все еще опиралась лбом о дверь.
По мере своего разумения, она понимала, что означает происходящее. Чем дольше звучало заклинание, тем сильнее охватывала ее жгучая ненависть. Она пробормотала: "Убей! Убей!" Ей было наплевать, что станется с Бетти, эта дрянь должна умереть! Смутно различив звенящее противодействие Имени, она испугалась, что Бетти останется жить. И в тот момент, когда она боролась с этим страхом, прозвучал безмолвный призыв хозяина.
Если бы только они были союзниками, пусть сколь угодно неравными по положению, то между ними, может быть, и существовало бы доверие. Это могло бы помочь — но никакого доверия не было. Ни разу не довелось им обменяться радостной улыбкой равенства, облагораживающей любое правильное человеческое или царственное руководительство. В их отношениях не было и намека на равенство — именно это так испугало Ричарда в улыбке Саймона. Оно должно было быть, потому что Всемогущий изначально умалил свою мощь, предоставив подчинению совершаться по доброй воле, а может быть, потому, что в самом Всемогуществе существует равенство подчинения самому себе. Иерархия бездны ничего не хочет знать ни о равенстве, ни о красоте внутреннего равновесия, и владыка этой иерархии (если он вообще существует) никогда не смотрит снизу вверх, подчиняясь своим подчиненным, и не видит над собой превосходящую славу его дома. Никогда ни в одном мифе о Сатане или Люцифере, Иблисе или Ахримане даже намека не было, чтобы этот владыка облекся в человеческую плоть.
С какой стати ему лежать в каких-то яслях, беспомощному, зависимому от этих жалких людишек вокруг? Подобно ему и Саймон в таинстве рождения обрел только то, над чем намеревался властвовать. Поэтому он, да и все его предшественники и последователи, никогда не удовлетворяются достигнутым. Бич жажды власти, не разделенной ни с кем, гонит их все дальше и дальше. "Как может устоять царство сатаны, если разделится само против себя?" — спрашивал Мессия, и мрачные педанты, к которым он обращался, не могли дать ответа, которого ждали его сияющие глаза. "Никак".