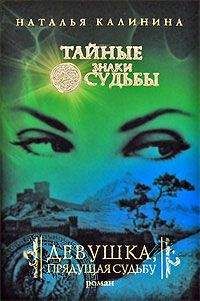— Мама?
Та кивает, руки тянет, дышит мелко и часто, смотрит так, будто все эти годы молилась за дочь, встречи ждала. И Пута дель Дьябло с наслаждением сжимает кулак, в который ловко, привычно ложится плетеное косицей, туго свернутое тело кнута. Выпустить бич из ладони, точно змею, подхватив рукоять, щелкнуть для устрашения тонким концом и ударить с оттяжкой — тоже дело привычное, давным-давно освоенное на пиратских кораблях, полных поротого матросского мяса. Кэт бьет не для того, чтобы убить, хотя в три удара может снять плоть с костей, не хуже чем тесаком. Но сейчас она стремится лишь напугать, причинить боль, загнать в угол. Мать, закрывая лицо ладонями, дрожит под плетью, всхлипывает, вот-вот Саграде станет стыдно, и жалко, и боязно. И вдруг пиратка понимает: это не плач. Это смех. Проклятая тварь смеется тихим, гадким, ехидным смехом, бьющим наотмашь больней бича и лезвия, льда и пламени. Пута дель Дьябло отшвыривает кнут и, взрыкивая, кидается вперед — безоружная, пьяная от злобы, со скрюченными в бессильной ярости пальцами.
Кто-то темный и неуловимый перехватывает ее поперек живота, удерживает на весу, как пушинку, пока ненависть, забившая рот могильной землей, не уходит, не попускает. И лишь когда Кэт вспоминает, как дышать, ставит ее на ноги.
— Не надо. Это всего-навсего алрун,[109] — шепчет в самое ухо, гладит по волосам.
Саграда не в силах припомнить, кто он, но знает: человек верный. Можно даже откинуть голову назад, на широкое сутулое плечо. Если скосить глаза, то виден длинный хрящеватый нос и черная борода, хорошо защищающая от морских ветров. Торо Эспаньол. Испанский Бык. Здесь, рядом. Живой.
— А ты? Тоже алрун? — спрашивает Саграда зло и беспомощно.
— Нет, — посмеивается тот, — меня зовут Ясса. Я пекельный бог.
— Пекельный?
— Адский змий я, друг твоего мужа. Всех твоих мужей. — Улыбка у змия радушная, хозяйская, благостная. Торо никогда так не улыбался.
— А где они, мои мужья, Ясса? Где мои демоны, мои спутники? — ответа Кэт дожидается с замиранием сердца. Вдруг скажет: нет их больше. Одна ты, вся в моей власти, слабая и жалкая.
— На пиру. Вам, живым, спать надобно, а им, мертвым, лишь бы чарку налить да на грудь накатить, — почти выпевает пекельный бог.
— Отведешь меня?
— За тем и пришел. Кто знает, сколько б ты еще блуждала. Комнат памяти у меня много, зайдешь, да и не выйдешь.
Пиршественный зал огромен, купол над ним — будто звонкий золотой котел. И отражением — котел внизу, полный ароматного варева. Кру́гом стоящие столы завалены мясом, розовым на срезах, сочно-поджаристым. Жиром и кровью полнятся блюда, каждое размером со шлюпку. Эби толкается изнутри: не ешь. Не трогай. Пропадешь.
Саграда и сама чует: ловушка. Великолепная, манящая, хваткая ловушка для доверчивых душ. Как хорошо, что личный демон Кэт избавил ее от остатков доверчивости.
* * *
Сколько раз Катерина видела стоп-кадр на экране: снятый множеством камер, он длился и длился, обходя по кругу зависшего в прыжке убийцу, провожая взглядом ползущий к живому телу клинок, любуясь расцветающим деревом кровавых брызг. Сейчас все эти киношные игры со временем происходили рядом с Катей. И вокруг. И повсюду. Лезвие балисонга все никак не могло приблизиться к белой, как снег, альбе,[110] рука, недостаточно грубая для простолюдина и недостаточно холеная для аристократа, тянулась сорвать фанон,[111] птицы, растопырив крылья, недвижно висели над площадью, толпа замерла на полу-вдохе… И только камерленго да секретарь Престола, обменявшись понимающими взглядами, сошли с места и приблизились к папессе.
— Хороший ход, — уважительно кивает Уриил.
— А я думал, это твой ход! — искренне удивляется Люцифер.
— Нет, мы даем Саграде право выбора.
— И мы.
— А кто тогда?
— Не кто, а что. Чиновничье рвение, — ухмыляется дьявол и переводит взгляд на недвижимого убийцу. — Буэр? О-то-мри.
И демон, исцеляющий раны, слуга демона, раны наносящего, нехотя опускает нож.
— Вы что, спятили там с Агалиарептом? — недоумевает владыка преисподней. — Кто вам сказал, что мне — МНЕ! — нужна помощь?
Глаза Денницы сейчас — чистое пламя, золотое, точно поверхность солнца, и такое же нестерпимо горячее. Сатана зол и кто-то поплатится за это. Катерина чувствует, как все ее тело инстинктивно замирает, стараясь не привлекать к себе внимания Люцифера, еще недавно заботливого любовника, а сейчас гибельного, страшного, могучего. Князя мира сего. Но тело — не вся Катя. Разуму нужно знать, что происходит. Это знание ценнее, чем безопасность, больше, чем страх, сильнее, чем инстинкт самосохранения.
— Тайгерм, — тихо произносит она, — что случилось? Скажи мне.
— Парочка демонов решила помочь своему князю, — вместо Денницы отвечает Цапфуэль. — Решили ускорить события: разрезать на тебе одежды и явить народу папессу в интересном положении. Чтобы ввергнуть церковь в раскол — тогда их князюшка сможет начать игру.
Люцифер оборачивается, пригнувшись, словно зверь перед броском. Взгляд его, бешеный и одновременно цепкий, подтверждает: все правда. Саграду пытались опозорить, а Денницу — унизить. Как будто он, всезнающий и всесильный, не сумел вырвать Катерину из сытой жизни во дворце. Как будто Священная Шлюха его отвергла. И только опозоренная и напуганная она вернется.
Буэр обречен. За такую наглость владыка преисподней его в адскую топку загонит и будет жарить там на вертеле тысячу лет. Кате отчего-то жалко незадачливого демона, ставшего игрушкой в чужих беспощадных руках — так же, как она сама. Папесса подставляет живот:
— Режь.
— Что? — кричат, кажется, все разом — и ангел, и дьявол, и демон.
— Режь одежду, — терпеливо повторяет Катерина. — Я не хочу больше притворяться. Ни что я папа римский, ни что свободна в выборе, ни что выстою против небес и ада. Давайте, делайте мною следующий ход. Ваша пешка готова.
— Пешку не спрашивают, — мягко произносит Люцифер. — Ни одну фигуру не спрашивают, даже королеву. Но я спрошу: ты готова?
— Да, — кивает Катя.
Ни черта она не готова. Она ненавидит этот чудовищно длинный миг, липкий, как смола, ненавидит ожидание всего, что случится после: рев толпы, смена обожания яростью, спасение под градом камней, бегство под насмешливым взглядом Уриила… Воображаемые картины выматывают душу, живот кажется огромным и беззащитным рядом с занесенным лезвием, медленно, сантиметр за сантиметром, распарывающим белоснежную ткань. Сияющую, точно изнанка грозового облака. Чистую, как вся невинность мира.