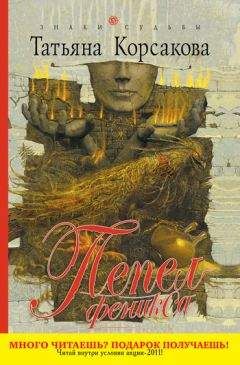Оказалось, не нужно прислушиваться, достаточно лишь поднять голову – чтобы в самой глубине парка увидеть красное зарево костра…
Андрей Васильевич бежал, не разбирая дороги, натыкаясь в темноте на деревья, отпихивая лезущие в лицо ветви, а когда добежал, крик прекратился…
…Огонь яростно полыхал, но та, что еще несколько минут назад пыталась вырваться из его страшных объятий, больше не кричала. Борясь с животным ужасом, подкатывающей к горлу тошнотой и невероятным жаром, Андрей Васильевич бросился раскидывать костер. Сотников с неотвратимой ясностью понимал, что его помощь уже бесполезна, но не мог остановиться. И даже когда кто-то схватил его за плечи и попытался силком оттащить, продолжал сопротивляться, рваться обратно, пока не упал на землю от оплеухи.
– Простите, Андрей Васильевич, но по-другому вы меня не слышали. – Над ним склонился барон. – Бесполезно все, – сказал фон Вид устало, – не спасем уже, дрова керосином политы, горят как солома.
Барон говорил, а на лице его плясали тени от огня. Видно, оттого оно казалось не человеческим вовсе, а дьявольским…
– Кто? – только и смог спросить Андрей Васильевич.
– Не знаю. Сейчас мои люди зальют костер…
На крик со всех уголков парка сбегались гости и замирали, точно вкопанные, на краю полянки. Каждый из них понимал, что случилось, но одно дело понимать, и совсем иное – верить. Гости не верили, до последнего надеялись, что это какой-то ловкий трюк, очередная, пусть и не самая удачная, но все же шутка эпатажного хозяина.
– Вот говорил же я вам, господин барон, что дурная это идея с гуляньем! – Косоруков прибежал в числе последних. Запыхавшийся, расхристанный, в расстегнутом мундире, выглядел он нелепо и ничтожно, но со словами его Андрей Васильевич был вынужден согласиться. В своем стремлении удивлять Максимилиан фон Вид сам, своими собственными руками, помог нелюдю в осуществлении его планов.
– Как думаете, кто на сей раз? – прикрывая лицо рукавом, Косоруков приблизился к почти затушенному, но еще пыхающему жаром костру. – Кто-то из челяди?
Андрей Васильевич заставил себя встать, оглянулся на растерянную толпу гостей и, превозмогая тошноту, подошел к застывшему на самой границе выжженного круга начальнику полиции. Смотреть на жертву было страшно, но он вглядывался в это черное, ничего общего не имеющее с человеком существо до одури, до рези в глазах, а потом выдохнул:
– Господа, это Олимпиада Павловна…
– Как?! – Косоруков отшатнулся от кострища, схватил Андрея Васильевича за рукав. – С чего вы взяли?!
– Сережки, – прошептал барон и шагнул прямо в дымящийся пепел, – бриллиантовые сережки Олимпиады Павловны…
Он на мгновение нагнулся, а когда вновь распрямился, на его некогда белоснежной, а нынче совершенно черной перчатке что-то блеснуло.
– Что это, господин барон? – Косоруков наконец оставил рукав Андрея Васильевича в покое. – Вы что-то нашли?
– Нашел, – барон развернулся спиной к костру, вытянул перед собой руку, и в мерцающем свете фонарей стало видно, что на ладони у него лежит украшенный разноцветными каменьями золотой цветок.
– Что это? – спросил Андрей Васильевич.
– Цветок папоротника – ювелирная вещица, заказанная мною в Москве. Значит, она его отыскала…
– Так вот он – ваш обещанный сюрприз? – Андрей Васильевич не сводил взгляда с искрящейся и переливающейся всеми цветами радуги безделушки. – Награда для самого пытливого?
– Или пытливой… – вздохнул барон и, не оглядываясь, пошагал прочь…
* * *
Вот насколько хорошо этот день начался, настолько же плохо он продолжился! А все из-за Громова, который ни с того ни с сего возомнил себя детективом и защитником всех угнетенных. За всю историю их дружбы Гальяно не помнил ни одного случая, когда бы приятель бросался спасать хоть кого-нибудь. Подобранный зимой на улице котенок не в счет. К тому же душевный порыв Громова закончился в тот самый момент, когда котенок был отогрет и накормлен колбасой. Приволочь зверюгу в дом он приволок, а вопросом дальнейшего устройства несчастного кота не озаботился. Так и жило это усатое-полосатое в салоне, пока Гальяно не всучил его одной из своих особенно сердобольных клиенток. Правда, пришлось схитрить, сказать, что кот заговоренный на привлечение в дом денег и богатства, но это уже мелочи. На что не пойдешь, чтобы избавиться от вечно орущего да к тому же еще и линяющего зверя!
А тут не котенок, тут целая женщина! И Громов, который о своей личной жизни не рассказывал никогда ни при каких обстоятельствах, даже по пьяной лавочке, вдруг решил взять на себя роль телохранителя. Причем, в отличие от практичного магистра, совершенно бескорыстно. Конечно, после той чудесной ночи, которую Гальяно провел с Любашей, он тоже был готов на широкие жесты, но исключительно ради Любаши, а не какой-то там чокнутой девицы, за которой гоняется самый настоящий призрак.
К сожалению, Громова не интересовало ни мнение, ни желания друга, Громову приспичило прошвырнуться на старое кладбище. Ну, коль захотелось, пусть прошвырнется…
– Кажется, тут. – Гальяно остановился напротив старого, вросшего в землю склепа. – Поклясться и побожиться не смогу, но очень похоже.
– Похоже? – Громов в задумчивости поскреб небритый подбородок. Вот как можно относиться к своей внешности с такой небрежностью?! – Ну, давай посмотрим!
– Да что там смотреть?! Склеп, он и в Африке склеп. Может, я вообще ошибся, говорю же, ночь была.
Друг его не слушал, вместо этого он изучал ржавый замок на покосившейся двери.
– Ты не ошибся. – Громов отшвырнул замок и потянул на себя дверную ручку. – Милости прошу! – сказал он с мрачной усмешкой.
– Только после вас! – Прежде чем войти внутрь, махровый атеист Гальяно трижды перекрестился и щедро окропил сначала себя, а потом и Громова святой водой.
– Это что? – обернулся друг.
– Это на всякий пожарный, – сообщил он, пряча фляжку из-под святой воды в карман пальто.
– На всякий пожарный нам нужно было прихватить с собой осиновые колы, – хмыкнул Громов, и от его слов по спине у Гальяно побежал табун мурашек. До чего ж опасна жизнь магистра черной и белой магии, кто бы знал…
Несмотря на то, что в мире наконец приключилась самая настоящая весна с птичьим чириканьем и ярким солнышком, в склепе царил полумрак. Стараясь держаться поближе к Громову, Гальяно переступил порог и снова перекрестился. Изнутри склеп казался намного больше и мрачнее, чем снаружи. Хотя куда уж мрачнее! Барельефы, затянутые такой густой паутиной, что не разобрать, что на них изображено, в стенах трещины, сквозняки и какая-то особенная, даже не кладбищенская, а прямо-таки замогильная тишина. А в центре композиции – каменный саркофаг, здоровенный, монументальный и такой же мрачный, как сам склеп.