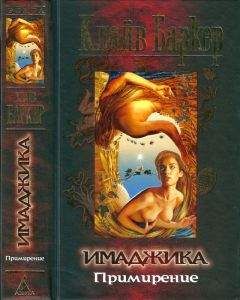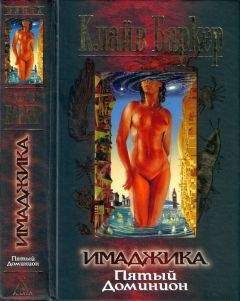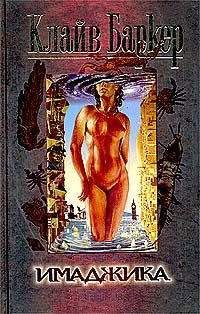Проникший в кровь кофеин помог ей забыть об усталости, и она решила этим же вечером отправиться к Оскару. После возвращения она несколько раз звонила ему, но дозвониться не смогла. Однако ей было прекрасно известно, что долгие гудки в трубке вовсе не являются доказательством отсутствия Оскара или тем более его кончины. Он редко подходил к телефону сам — обычно эта обязанность падала на Дауда — и неоднократно заявлял о крайнем отвращении к этому изобретению. Как-то раз он сказал, что в раю обычные праведники пользуются телеграммами, а у святых есть говорящие голуби; телефоны же расположены гораздо ниже.
Она вышла из дома около семи, поймала такси и отправилась на Ридженс-Парк-роуд. Дом оказался наглухо заперт; ни одно окно не было открыто. В такой благодатный вечер это, несомненно, должно было означать, что внутри никого нет. На всякий случай она обошла дом и заглянула в одно из задних окон. Заметив ее, три попугая Оскара тревожно поднялись с жердочек и принялись издавать панические вопли, пока она, загораживая руками свет, пыталась разглядеть, полны ли их мисочки с водой и семенами. Хотя насесты их были далеко от окна и ничего увидеть ей не удалось, степень их возбуждения была сама по себе достаточно тревожным признаком. Судя по всему, Оскар уже давно не поглаживал их перышки. Так где же он? Может быть, его труп лежит в поместье, в зарослях высокой травы? Даже если и так, было бы безумством отправляться туда на его поиски за час до наступления темноты. Кроме того, она была уверена, что тогда глаза ее не обманули: в самый последний момент она увидела, как Оскар поднялся и оперся о косяк. Несмотря на склонность к излишествам, он был физически крепким мужчиной. Она не могла поверить в то, что он мертв. Скорее уж где-то прячется, скрываясь от «Tabula Rasa» и его агентов. С этой мыслью она вернулась к парадной двери и нацарапала анонимную записку, в которой сообщала, что с ней все в порядке. Записку она бросила в почтовый ящик. Он поймет, кто автор. Ну кто еще, кроме нее, мог написать, что экспресс привез ее домой, целой и невредимой?
Примерно после половины одиннадцатого она стала готовиться ко сну, но с улицы донесся чей-то крик: кто-то звал ее по имени. Она вышла на балкон и увидела внизу Клема, орущего во всю глотку. В последний раз они разговаривали много месяцев назад, и к тому удовольствию, которое она испытала, увидев его, примешивалось чувство вины. Но по тому облегчению, которое прозвучало в его голосе при ее появлении, и по жару его приветственного объятия она поняла, что пришел он не для того, чтобы вымучивать из нее извинения и оправдания. Он с ходу заявил, что пришел сообщить ей нечто экстраординарное, но, прежде чем он сделает это (она сочтет его сумасшедшим, в этом нет сомнений), ему надо выпить. Не может ли она налить ему коньяка? Она исполнила просьбу, и он осушил рюмку одним глотком. Потом он сказал:
— Где Миляга?
Вопрос — в особенности его требовательный тон — застал ее врасплох, и она смешалась. Миляга хотел остаться невидимым, и, как ни велика была ее ярость, она чувствовала себя обязанной уважать это желание. Но Клем не собирался отступать.
— Ведь он уезжал куда-то, верно? Клейн говорил, что пытался ему дозвониться, но телефон был отключен. Потом он написал Миляге письмо, но тот не ответил…
— Да, — сказала Юдит. — Мне тоже кажется, что он куда-то уезжал.
— Но он только что вернулся.
— Ах вот как? — ответила она, с каждой секундой все более теряясь, — Так ты, наверное, осведомлен лучше меня.
— Не я, — сказал он, наливая себе еще коньяка. — Тэйлор.
— Тэйлор? Что ты хочешь этим сказать?
Клем осушил рюмку.
— Ты назовешь меня чокнутым, но сначала выслушай меня, хорошо?
— Слушаю.
— Я не сделался сентиментальным после его смерти. Я не сидел взаперти, перечитывая его любовные письма и слушая песни, под которые мы танцевали. Я попытался оставить все это в прошлом и снова начать жить. Но я оставил в его комнате все как было. Я просто не мог решиться разобрать его одежду или даже снять постельное белье и постоянно откладывал это на будущее. И чем дольше я откладывал, тем более невозможным мне это казалось. И вот этим вечером я вернулся домой в самом начале девятого и услышал, как кто-то разговаривает. — Каждая клеточка тела Клема, кроме губ, замерла без движения, прикованная воспоминанием. — Я подумал, что оставил радио включенным, но нет, голос доносился сверху, из его спальни. Это был он, Джуди, он звал меня, совсем как раньше. Я так перепугался, что чуть не убежал. Глупо, правда? Днями и ночами я молился, чтобы мне был ниспослан какой-нибудь знак того, что Бог принял его к себе, и вот, когда этот знак появился, я чуть не обосрался. Говорю тебе, я полчаса простоял на лестнице, надеясь, что он перестанет меня звать. И иногда он действительно переставал на время, и мне почти удавалось убедить себя в том, что все это мне померещилось. А потом начинал снова. Никакой мелодрамы. Просто пытался убедить меня перестать бояться, подняться в его комнату и поздороваться. В конце концов я так и сделал.
На глаза ему навернулись слезы, но в голосе не слышалась скорбь.
— Он любил эту комнату по вечерам, когда ее освещало заходящее солнце. Такой она была и в этот вечер — вся полна солнечных лучей. И он был там, в этих лучах. Я не видел его, но знал, что он рядом, потому что он сам сказал мне об этом. Он сказал, что я хорошо выгляжу. А потом сказал так: «Сегодня радостный день, Клем. Миляга вернулся и привез с собой ответы».
— Какие ответы? — сказала Юдит.
— Вот и я его о том же спросил. Я говорю: «Какие ответы, Тэй?» Но ты же знаешь его: когда он счастлив, он совсем сходит с ума, как ребенок. — На губах Клема играла улыбка, а глаза его были устремлены на те картины, что оставались у него в памяти от лучших дней. — Его так переполняла эта новость, что мне ничего не удалось больше узнать. — Клем поднял взгляд на Юдит. — Свет уходил, — продолжил он. — И мне кажется, ему тоже надо было уходить. Он сказал, что наш долг — помогать Миляге. Поэтому он и явился мне сегодня. Он сказал, что это трудно, но ангелом-хранителем вообще быть нелегко. И тогда я спросил, почему он говорит только об одном ангеле — ведь нас же двое? А он ответил: «Потому что мы с тобой — едины, Клем, ты и я. Мы всегда были и всегда будем едины». Вот в точности его слова, я клянусь. А потом ушел. И знаешь, о чем я все время думаю?
— О чем?
— О том, как глупо я потерял время, что простоял на лестнице. Ведь я мог бы провести его вместе с ним. — Клем поставил рюмку на столик, вытащил из кармана платок и высморкался. — Вот, собственно говоря, и все.
— Я думаю, это не так мало.