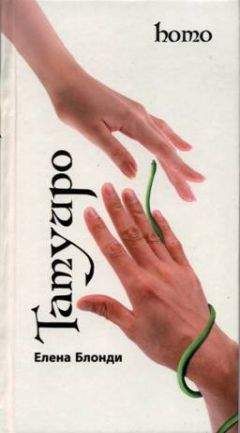Он не был мальчишкой, ведущем девушку в первое гнездо. Но и она не была девочкой. Он видел её мужчин, когда она, мучаясь болью, приняла его в свою голову, нескольких. Один, самый близкий по времени был волком-изгоем, опасным и безжалостным. Перед этим был человек-крыса, все мысли которого — набить желудок и кладовые. Её беды, он понял тогда, рассматривая этих мужчин, — от того, что не было дано настоящего, равного по крови. Он, Акут, такой. Под ногой хрустнула ветка, и мастер нахмурился. Был ещё один, уже после тех двоих. Он в памяти Акута то становился лесным котом с весёлыми от бешенства глазами, а то вдруг свивался змеей. Но больше всего было в нем морского зверя-рыбы, из тех, что иногда приплывают в реку, кричат, высунувшись, и бьют по воде сильными хвостами. Но кот-змей-рыба не входил в тело Найи, потому не мог считаться её мужчиной.
«И он остался там, — Акут снова оглянулся, подбадривая Найю улыбкой, — а тут есть я, муж, мастер Акут».
Над чёрными щётками деревьев всходило багровое лицо Большого Охотника. Он ещё полон вечерней ярости, но чем выше поднимется, тем ближе к нему укрытое облаками супружеское ложе. И скоро лик его посветлеет, уйдя в высокое небо. Встанет, светя в незаделанную дыру на крыше, и Акут будет видеть свою жену всю ночь. Свет Еэнна сделает её кожу ещё светлее. Так и надо. Чтоб он, Акут, видел свои темные руки на её белых плечах. И груди. И — животе.
Он сглотнул и сжал руку Найи так, что она споткнулась. Поспешно ослабил пальцы и пошел быстрее, держа её, как птицу с тонкими косточками под мягким пером.
В хижине Найя уже привычно прошла в тот угол, где была постелена циновка, и со вздохом села, приваливаясь к стене. Мастер постоял у входа, держа дверь за веревочную петлю. Думал с раскаянием о том, что у них совсем немного еды, придётся через несколько дней идти по соседям, брать муку и лепёшки в обмен на новые рукоятки скребков с красивой резьбой, рисовать узоры на тайках и покрывалах. Но есть мешок сушёных ягод кровяника, пара снопиков болотного папоротника и даже тыква с вином где-то в ворохе хлама, кажется, была. Ещё скоро будут грибы. И лоза, что вьётся у задней стены, уродила много кистей.
Он закрыл дверь и плотно накрутил верёвку на петли. Медлил, не поворачиваясь. Вот сейчас, прямо сейчас, пока свадебная подвеска из черных перьев щекочет ему плечо, он может подойти и взять её. И он стоял, рассматривая неровные жерди, стянутые лубяными верёвками, понимая: пока стоит так, близкое будущее не изменится…А потом он даст ей поесть. Мясо на празднике было горячим и вкусным, но его жена ела мало, и он тоже. Двое после любви всегда голодны. Накрошит в миску побеги папоротника и зальёт их кислым вином. Когда стебли разбухнут, их можно будет доставать руками и есть, это вкусно, из детства.
Хижина за спиной молчала маленькими привычными звуками, в жердях скрипел сверчок, пофыркивал мышелов, сидя под самой крышей на балке, и далеко, за стенами, слышался смутный говор людей, расходившихся по домам, редкие вскрики пьяных, и флейта иногда дудела свои ветреные слова.
Поворачиваясь и разводя руки, Акут начал речитатив Первой Ночи дождя:
— Как те, за облаками, не глядят на нас, так и мы не увидим никого. Как дождь, что сливается с водами реки, так и мы будем одним телом. Как травы, что спят под водой и пьют её во сне, так и мы напоим друг друга любовью…
Опустил руки и присмотрелся. Тихо подошел. Найя спала, укутавшись узорчатой тайкой, только пальцы белели на краю ткани, накинутой на голову. В тишине, наступившей после слов Акута, снова стало слышно сверчка и ещё тише — мягкие звуки, с которыми мышелов вылизывал свою шкуру.
Акут опустился на корточки и задумался, сев, как сидел обычно — с руками, свешенными между колен. Он впервые читал слова мужа. А она спит. Но Найя — необычная женщина. Да и боли мучили её. И от сонной травы ещё долго спать хочется. Но он муж и может лечь с ней. Должен!
— …Иди ко мне, чужая вчера и родная сегодня, — шепча речитатив дальше, он встал и пошёл в дальний угол, где из дыры в крыше сваливался на голые плечи холодный ветерок. Притащил туда старые шкуры, все, какие нашёл в завалах у стен, сверху насыпал охапками сухую траву, — всё хотел её выбросить, но мышелов любил спать, зарывшись, вот и пригодилась, сладкая запахом.
— … Иди и дай мне войти. Ляг на общее ложе, одно для двоих, пока дождь говорит в небе, пока за небом делят ложе Большие.
Циновка старая, но это хорошо, не будет царапать её нежные бедра и ноги. Акут не хотел стелить ту, с чёрными и красными узорами по краям, которую стелил для женщин, приходящих ночами. И есть ещё одно… Он подошел к дальней стене и оторвал с деревянных колышков шкуру горного волка. Она висела тут очень давно, стала привычной, как лес и река. Ночные женщины всегда были горячи, им хватало снятой с себя тайки, укрыться от ночной свежести.
Бросил шкуру на циновку и, наклонясь, провёл рукой по мягкому меху, серому и косматому. Отец когда-то ушёл к самым горам, и Акут помнил: каждый вечер мать шла на окраину деревни, к дальней тропе, стояла там, всматриваясь. Отец вернулся, когда мать растирала зерно в каменной зернотерке. Кинул на порог огромную шкуру и прошёл к колоде с родниковой водой, напился, черпая грязной ладонью. И мать, которая всегда ругала детей за то, что пачкают воду, уронила камень и подбежала. Села на корточки и обняла его вымазанные глиной колени.
Их нет, и сестра давным-давно ушла к мужу в деревню за рекой, а шкура вот она.
Он перевернул шкуру мехом вниз, чтоб мездра не царапала голых тел, откинул. И пошел за женой. Осторожно, чтоб не разбудить, приподнял Найю, понёс на ложе, путаясь в крае тайки. Она не проснулась, когда положил её на мягкое. Только вздохнула и поджала к животу ноги, мёрзла. Акут подержал в ладонях ледяные ступни. Подол тайки был влажен от вечернего мокрого воздуха. Мастер отстегнул деревянные шпильки, которые держали покрывало, и вытащил ткань из-под тела Найи. Настоящего холода не было, только ветерок из дыры бродил по хижине, но шкура волка их согреет. А он согреет свою жену.
Но вместо того, чтоб укрыть девушку, сидел рядом и смотрел. Лежит на боку, сжав кулаки и подобрав их к подбородку. Ночной свет, коснувшись плеча, провёл дорожку по боку к талии, поднялся на бедре, а потом побежал дальше по согнутой ноге до самой ступни. Небольшая грудь видна под рукой. За спиной её скомканная шкура громоздится, как горный хребет, и сама Найя похожа на оброненный стебель водяной лилеи с поникшим цветком на тонкой шее. Такая светлая, что Акуту пришлось напомнить себе о том, что — были мужчины и входили в неё. Мужчина-крыса делал это почти со скукой, а волк-изгой делал ей больно и наслаждался этим. Но главная боль была не телу, а сердцу и потому никуда не ушла.