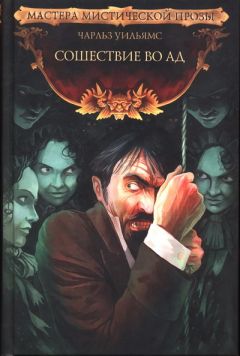– Ладно, пожелайте мне удачи.
– Да пребудет с вами милость Господня, – сказал он и проводил ее взглядом, прежде чем отправиться на свое место.
Зал был почти полон, торопливо заходили опоздавшие. Ворота уже закрывали, когда пришел последний человек. Это оказалась миссис Сэммайл. Пробираясь на свое место мимо Стенхоупа, она тихо спросила:
– Как мило, правда? Вы получили все, чего хотели?
– Ну, так уж и все… – протянул он.
Но миссис Сэммайл продолжила:
– Но ведь это хорошо, не правда ли? Совершенство скучно, разве нет? К нему лучше стремиться, чем его достигать, разве не так? Кто же это сказал, что лучше все время идти, чем попасть, куда надо?
– Нет уж, благодарю покорно, – сказал он, откровенно посмеиваясь. – По мне, так совершенство все же лучше, чем размышления о нем. Только что мешает иметь и то, и другое? Ладно, не будем задерживаться, до начала полторы минуты. Где вы сидите? Сюда. – Он проводил ее на место в конце ряда, ближе к сцене, и по пути серьезно спросил: – Вы же не против попасть сюда сразу, правда? Чем бродить с надеждой вокруг да около весь вечер?
Она вздрогнула и посмотрела на поэта с такой горечью, что Стенхоуп отошел, озадаченный. Устраиваясь в кресле, он подумал: «Но если ненавидишь достигать? Если живешь одним недостижением? Если только и делаешь, что избегаешь, вместо того чтобы понять? Если тебе нравится только неслышная музыка именно потому, что ее вообще нет? Всё – ложь, сплошная ложь…» Он отбросил незаконченную мысль, потому что из-за деревьев выступил Пролог, а вслед за этим в мгновенно павшей на зал тишине раздался звук трубы.
Он возвещал о начале, взывал к миру, требовал объединить души и сознания и устремить их вперед. С последним звуком трубы актеры заняли свои места, и теперь публика и труппа были словно две армии, выстроившиеся друг перед другом в ожидании сигнала к атаке. Пролог медленно шел по траве. На генеральной репетиции его шаги означали начало роли Паулины, но теперь она вдруг решила подождать, так что Пролог невольно стал провозвестником тишины. Паулина остро почувствовала связь тишины и слов, которые должны будут ее нарушить.
Здесь обязательно нужна была пауза. Слова, которыми она так долго восхищалась, не утратили для нее ни красоты, ни силы, но теперь к ним прибавилось новое – гармония движения и речи просто не могла существовать без пауз, а дальше – вот так, нога к ноге, слово к слову, строка к строке… Она всегда читала стихи на фоне тишины внешней, и только теперь поняла, как необходима тишина внутренняя. Ей открылось пространство беззвучия, которое всякое великое искусство создает вокруг себя. В песне Сына Дровосека жила тишина леса. Еще сегодня утром Паулина услышала ее, глядя в лицо мертвой Маргарет, и теперь тишина снова пришла на призыв трубы и мягко обняла девушку. Тишина заполнила мир, объединив разные его грани, тишина открыла свое истинное лицо изначальной сущности, звучащей меж всеми словами, в каждом дыхании, ибо все исходит из нее и все к ней возвращается.
Повинуясь ритму тишины, Паулина вышла на подмостки, вошла в пространство пьесы и повела свою роль. Она сама стала ролью, теория обмена любовью обнаружилась и здесь. Слова принадлежали Стенхоупу, но жизнью своей они обязаны ей и остальным актерам. В священном миропорядке поэт и автор занимал более высокую иерархическую ступеньку, и все же сейчас они были равны. Спасение невозможно без отказа от себя, без жертвы. Паулина играла, но игра стала реальностью, потому что тишина взяла над ней верх.
Солнце над Холмом словно удвоило сияние, но воздух оставался свеж.
В перерыве Паулина удивилась, услышав как Миртл Фокс жалуется на жару.
– Это совершенно невыносимо, – говорила мисс Фокс, – и эти мерзкие деревья!.. Почему мистер Стенхоуп не приказал их спилить? Я все-таки думаю, что духу нужен воздух, а ты? Я бы умерла в джунглях, а это же джунгли и есть.
– Я думала, – сказала Паулина беззлобно, – что тебе в джунглях будет уютно.
– Знаешь, есть такое понятие, как чрезмерный уют, – встряла Адела. – Паулина, можно тебя на минуточку?
Паулина позволила себя увести.
– Слушай, ты ведь на дружеской ноге со Стенхоупом, не так ли? – начала Адела.
– Да, – сказала Паулина и сама себе удивилась. Она, вообще-то, собиралась сказать что-нибудь вроде: «О, не очень» или: «А ты разве нет?», или какую-нибудь другую подобную глупость: «Ну, не знаю, можно ли это назвать дружеской ногой». Но ее поразило само это странное словосочетание – «дружеская нога», поэтому она сказала «да» и стала ждать продолжения.
– О! – Аделу ответ тоже удивил. Она справилась с собой и продолжила: – Я думала об этой пьесе. Мы столько с ней возились – я, и миссис Парри, и другие… – Она запнулась.
– Миртл вчера сказала, – вспомнила Паулина, – что она воспринимает пьесу как свою собственную.
– Ну да, – скривилась Адела. Видимо, она не собиралась принимать Миртл в акционерную компанию собственников пьесы. Жара действовала и на нее, – обычно принцессам не свойственен такой интенсивно розовый цвет лица.
Разговор как-то провис, едва начавшись. Адела сглотнула и все-таки решилась продолжить его. У нее не шло из головы, с каким почтением некоторые гости раскланивались сегодня со Стенхоупом. Врожденный эгоизм требовал принять участие в этом празднике жизни. Она сказала:
– Ты не могла бы его кое о чем попросить?
– Ну, наверное… если это прилично, – ответила Паулина, раздумывая, где в этом новом мире, открывшемся ей сегодня, лежат границы приличия, если они там есть, конечно. Наверное, Питер нашел бы место для миллиона-другого вселенных и внутри этих границ.
– Дело вот в чем, – казалось, Адела обрела почву под ногами. – Я всегда думала, что это замечательная пьеса.
Сияющая Паулина с ночной дороги кивнула своему здешнему Я: «Еще бы она так не думала!»
– Ну вот, – голос Аделы набирал обороты, – а поскольку все мы были в ней заняты, я подумала, как было бы здорово оставить ее за собой – я имею в виду, если он нам позволит. – Ей очень не хотелось просить Паулину об одолжении, она терпеть не могла одалживаться. К тому же кожа у нее чесалась от жары, это отвлекало, но она продолжала стоять на своем. – Я же не ради себя прошу. Я же ради общего дела…
– Адела! – поторопила ее Паулина. – Ты можешь просто сказать, чего ты хочешь?
Адела была не слишком искушена в казуистике Гоморры. Она верила – с трудом, но верила, – что говорит правду, когда сказала:
– Я ничего не хочу, но думаю, что мистер Стенхоуп мог бы позволить нам участвовать в его лондонской постановке.
– Нам? – спросила Паулина.