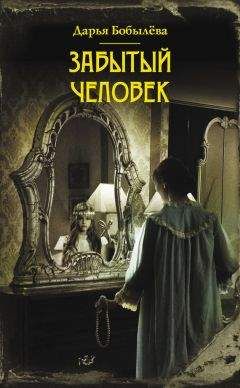Мама Ленки и Ольки, опухшая и от слез, и после вчерашнего, теперь пила уже с горя. Отчим помогал, а потом колотил кулаком по столу, сбрасывая на пол стопки и вилки, и орал, что «своими руками найдет гада…». Олька сидела в большой комнате, одна, и тихонько раскладывала на ковре свои сокровища. Иногда в комнату заходила мама, обнимала ее, мокро и крепко чмокала то в лоб, то в щеку, то в губы и уходила. На кухне закусывали салатом, и от маминых поцелуев на Олькином лице оставались тонюсенькие зеленые укропинки.
Олька неотрывно разглядывала свои трофеи, перекатывала их по убогим ковровым узорам и думала, что теперь найдет много, гораздо больше, чем Ленка, и все оставит себе. Ленка нашла тринадцать – перед тем как куда-то потерялась.
Мадина-Медуза из 65-й квартиры сидела на подоконнике, болтала ногой и слушала, как на кухне – точно такой же, кстати, как и в квартире сестренок, – мама с бабушкой обсуждают похищения детей, маньяков и прочие ужасы, интересовавшие сейчас двор. Два месяца назад Мадине исполнилось пятнадцать лет. Она осваивала тонкости бритья ног и подкрашивания глаз, неумело боролась со слоем молодого жирка на животе и очень хотела быть взрослой. Но пока все равно носила вечные джинсы и занавешивала старательно накрашенные глаза рыжевато-русыми волосами. Мадина считала, что ноги у нее короткие, нос – большой, а ногти растут криво, но на самом деле она была маленькая, забавная и яркая, как белка.
Мадиной ее назвал грозный, потемневший от времени, как урюк, восточный дедушка, и возражать никто не посмел. Через два года после рождения внучки он умер, и в семье больше никого восточного не осталось. Мадина, как все дети, имя свое не любила и восточности его стеснялась, требовала, чтобы ее звали Диной, а потом, обзаведясь колючей подростковой индивидуальностью и гремящим в ушах плеером, сама себе придумала прозвище – Медуза. Появилось оно случайно, у родственников на даче, когда Мадина, нырнув как-то в речную воду, увидела сквозь желтоватую муть плывущие щупальцами пряди собственных волос, и подумала молниеносно, что голова ее сейчас – как медуза, и сама она, может, Медуза Горгона, и всем еще покажет. Цепочка мыслей мелькнула и канула на дно речки, а само слово осталось и приглянулось Мадине. Немногочисленным подружкам запомнилось, все привыкли – и Мадина стала Медузой.
Вечерний двор был непривычно пустынным, только добросовестные собачники ждали, пока питомцы «сделают дела», и неблагополучные братья Ключниковы, лихо матерясь, гоняли на одном на троих велосипеде.
Стукнула дверь, и что-то мелькнуло в кустах под окном. Медуза пригляделась – Олька. Ольку с Ленкой она не то чтобы хорошо знала, в детстве разница в пять лет – пропасть. Но существование их Медуза наблюдала давно и регулярно, они были для нее частью двора, чем-то вроде корявого, покрашенного снизу белым тополя или железной, с давно выученными надписями двери подъезда.
Олька прошлась туда-сюда, глядя себе под ноги, потом перебралась на газон и вдруг, будто споткнувшись, бухнулась на коленки и стала торопливо шарить руками в стриженой траве.
Поколебавшись и успев поразмыслить о том, насколько все это не ее дело, Медуза открыла окно и высунула свой невосточный нос на улицу.
– Оль, тебя чего, одну отпустили?
Этаж был третий, так что Медузе даже не пришлось особо повышать голос.
– Н-не… – оглядевшись по сторонам, буркнула честная Олька.
– А ну домой иди, мама же тебя искать будет. Иди давай!
– Я быстро… Они там спят все. Пьяные. Я сейчас, – И она опять наклонилась за чем-то с радостным ойканьем. – Я еще немножко поищу.
– Оль, иди домой, Ленку пусть милиция ищет…
– Да зачем Ленку, – засмеялась девочка. – Вот что! – И она подняла кверху раскрытую, абсолютно пустую ладошку.
Медуза начала сердиться. Ей хотелось, чтобы малявка ее слушалась.
– Иди давай, говорю!
– Я только еще одну… – Олька отбежала за припаркованную машину. – Я быстро…
С кухни позвали ужинать. Медуза на секунду отвернулась от окна, крикнула «не хочу!», а когда снова посмотрела во двор – Ольки там не было.
– Оль?
Медуза не забеспокоилась – просто очень удивилась. Добежать за это время до подъезда Олька бы точно не успела, да и дверь не хлопала. До соседнего дома и до ряда тополей перед ним было тем более далеко. Олька могла разве что спрятаться за машинами или за гаражами.
– Ну вообще… – окончательно рассердилась Медуза, которая ведь по-взрослому волновалась об Олькиной судьбе, а тут с ней решили играть в какие-то прятки. Она еще раз осмотрела с подозрением двор и спрыгнула с подоконника на пол.
Выбежав во двор, Медуза заглянула за гаражи, быстро прошлась между машинами – пусто. Возле старенькой белой «Волги» сквозь трещину в асфальте пробивался пучок одуванчиков, и часть листьев его была теперь выщипана и разбросана рядом вперемешку с комочками земли – Олька тут копалась, что-то искала. Медуза присела на корточки, изучила одуванчики, заглянула под ржавое днище машины – и вдруг заметила с другой стороны от нее что-то блестящее, закатившееся в щель у бордюра.
Это оказалась крупная, как виноградина, удивительно красивая бусина, неизвестно откуда взявшаяся. От каждого движения в бусине что-то изменялось, вспыхивали в глубине и всплывали на поверхность золотые искорки, цвет перетекал из нежно-зеленого в молочно-белый, небесно-голубой, апельсиновый, оливковый, цвет морской волны, вечерних облаков, цвет вкусного кофе с молоком, неуловимый цвет бликов на мыльном пузыре… Бусина была теплая, нагретая солнцем, и вся такая округлая, аккуратная, ровная, радующая глаз.
Наблюдая за озорными искорками и сменами цвета, Медуза не сразу вспомнила про Ольку. Потом все-таки позвала ее еще пару раз, оглядела двор, бережно положила бусину в карман и направилась к подъезду. Настроение у Медузы было сейчас просто отличное, и ей не хотелось ни злиться на Ольку за удачную игру в прятки, ни тем более думать о том, что Олька никуда не пряталась и пора бить тревогу.
В дверях она неожиданно столкнулась с высокой, сухой старухой, похожей то ли на сложенный зонтик, то ли на старый мухомор – огромная шляпа, блузка с перламутровыми пуговицами, длинная юбка в складку. Старуха больно ткнула Медузу в бок своим костлявым бедром, на секунду остановилась, наклонилась слегка, и ее большие выцветшие глаза блеснули в тени шляпы.
– Старовата, жестковата… – то ли извиняясь шутливо за собственную неуклюжесть, то ли мурлыча под нос обрывок стишка или песенки, быстро прошелестела старуха и, обдав Медузу затхлым запахом, вышла во двор.
Через несколько часов дом опять гудел, удивлялся, шушукался и строил версии. По двору бегала мать Ольки и Ленки – в неприлично распахнувшемся халате, с лицом белым и раздутым, как подошедшее тесто. Она искала везде, даже в мусорных контейнерах, звала сестренок и тряслась в кашляющих рыданиях. Движения ее вдруг стали трагически-плавными, голос обрел надрывную глубину, и даже взгляд прояснился от горя.