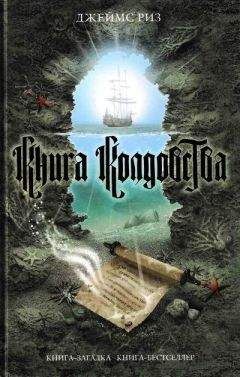Такое заявление я сочла совершенно бессмысленным. Как я могла подчинять себе тех светоносных созданий?
— Ты шутишь?
— Вовсе нет. Они выполняют несколько простейших команд, а от меня они получают всего лишь необходимое питание.
— Тогда расскажи мне о колибри; между прочим, уколы их клювов очень болезненны. А также о мотыльках и светляках, которые привели меня сюда, о павлинах и летучих мышах, а потом о питоне — я провела рядом с ним целую ночь, не доставившую мне особого удовольствия.
— Ах, — ответил Бру, — объяснения займут слишком много времени. Чтобы понять эти объяснения, тебе пришлось бы сосредоточиться гораздо больше, чем ты сейчас можешь, судя по твоим отяжелевшим векам. Поэтому, если мои слова ты воспринимаешь с трудом в столь поздний час, прислушайся к их свидетельству.
После этих слов он поднялся и, опираясь на свой кадуцей, вышел из шатра, но тут же вернулся с жужжащей колибри в правой руке. Стоя передо мной, он принялся откручивать у маленькой пташки сразу оба крылышка, так что я отшатнулась при виде этой жестокости. На бледной ладони К. сидела бескрылая птичка, похожая на… пустую коробочку вроде кокона, в котором что-то жужжало. В другой своей руке он зажал крылышки, и я видела, что они еще бьются и трепещут с невероятной частотой, свойственной этим пичужкам. Не знаю, что было хуже: вид тщедушного тельца, низведенного до состояния личинки, или жужжание ее оторванных крыльев. Однако самое неприятное произошло потом.
Бру наклонился и скормил тельце удаву. Затем выпустил из своей ладони, как из клетки, трепетавшие крылышки, и они полетели все выше и выше, на самый верх шатра, пока не оказались в разных углах — одно в ближнем, другое в дальнем, слепые, безмолвные, бьющиеся без конца, не затихая и… не умирая после того, что случилось.
— Живые, — произнесла я, боязливо подавшись вперед и перегнувшись через край дивана, чтобы получше рассмотреть сокращения мышц питона, красноречиво свидетельствовавшие о том, что процесс пищеварения идет полным ходом.
— Живые? — повторила я, переведя взгляд на крылышки, по-прежнему летавшие под самым потолком. — Все еще?
— Нет, — отрезал Бру, как строгий учитель, исправляющий неточный ответ ученика. — Ты удивляешь меня, ведьма. Я полагал, ты лучше осведомлена об одушевленной мертвой материи.
Тут он не промахнулся — так и было. Однако…
— Это бессмертные духи животных, прекративших бренное существование.
— Бессмертные? Ты хочешь сказать, что они…
— Да, вечно живущие. Но ты неустанно, вновь и вновь возвращаешься к этому слову! Да, они бессмертны, и мои команды им почти не нужны. Это ты им нужна, это к тебе они тянутся и стремятся.
Эта новость оказалась для меня неприятной, но я не сильно удивилась. Меня давно тревожили не знающие покоя души мертвецов, как-то связанные со мной, ищущие общения. Чем же неприкаянные твари — ибо покой им был явно чужд — отличаются от людей, познавших тот же удел? Более того: животных все сильнее влекло ко мне по мере того, как сила моя возрастала, хотя они меня совершенно не интересовали. В отличие от многих сестер я не стремилась к близости с меньшими нашими братьями, у меня никогда не было даже кошки в качестве «наперсницы». Все это промелькнуло в моей голове, подтверждая, как это ни странно (и впрямь, страннее некуда), слова Бру. Тем не менее я спросила:
— Но как колибри нашли меня у сеньоры Альми, если никто не посылал их за мною?
— Я не знал, куда их послать, — отвечал Бру. — Я только сейчас узнал, что твоим пристанищем стал «Отель-де-Луз». Между прочим, тебе лучше оттуда съехать: его владелица имеет для каждой двери запасной ключ, смазанный маслом. А от Себастьяны д'Азур я узнал лишь одно: что ты, может быть, прибудешь сюда, причем неизвестно когда, весной или летом. Но я знал, что эти крылатые твари найдут тебя, если их выпускать ночью. Дух тянется к духу. Подобное к подобному. Кажется, так?
— Может, и так, но все-таки я еще жива, а эти твои пташки, эта компания странных существ, они ведь… явно неживые.
— Именно так, — согласился К. — Они вполне мертвые, хотя, если выразиться верней, они представляют собой дистиллят жизни.
— Дистиллят жизни?
— Да, — подтвердил Бру, возвращаясь на свой диван, рядом с которым продолжал трапезу питон, в то время как маленькие крылышки продолжали кружиться под самым потолком шатра, причем порознь, что меня раздражало более всего. Если бы они оставались парой, как полагается крыльям, тогда хотя бы…
— Но теперь, — продолжал Бру, — мы остановимся на самом процессе. Поверь, это очень важно. Тебе придется посидеть здесь еще несколько минут, хорошо?
Что мне оставалось? Перешагнуть через удава, пригнуть голову, чтобы за нее не задели бесплотные крылья, и распрощаться с алхимиком, сказав ему «adieu»?[78] Нет уж. И я действительно просидела еще несколько минут, стараясь сосредоточиться на том, что говорил Бру. Он обещал быть кратким, и я решила отнестись к его речи со всем возможным внимание — которого мне сейчас, увы, не хватает. Костенеющая рука моей Мисси как будто смеется надо мною, когда я описываю неутомимые оторванные крылья, не ведающие, что такое трупное окоченение, мешающее мне писать эти строки. Увы, я настойчиво двигаюсь к концу моей повести, хотя для этого приходится идти против самой природы.
Итак, суть алхимии состоит в стремлении к совершенству, проявления которого столь многообразны. Одним из них является золото, но также…
Лучше предоставлю слово самому Квевердо Бру.
— Стремится ли к совершенству сама природа? — задал он очередной вопрос, чтобы тут же, якобы в поисках ответа, приступить к объяснениям. — От этого в алхимии зависит очень многое. Ежели природа не имеет подобной склонности, никакой алхимик не заставит ее способствовать достижению желанной цели, коим является совершенство. Но она, — продолжал рассуждать Бру, — ищет совершенства, и это неоспоримо. Любая руда, оставленная дозревать в чреве земли, в глубинах ее лона превратилась бы в золото через сотни, а возможно, и через тысячи столетий. Алхимик пришпоривает время, ускоряя естественные процессы. В руках адепта столетие превращается в минуту, как сказал мудрый Тритемиус.[79] Это достижение ничуть не уступает подвигу того древнего бога-кузнеца, который впервые выплавил металл из руды, выковал из него орудия труда, а для этого наперед высек из кремня искру, дабы возжечь огонь, и стал господином огня, тем ускорив процесс, начатый в недрах матери-земли. Кстати, человек подстегнул природу, когда впервые обжег горшки, слепленные из грязи из-под ее кожи. Разве не так?