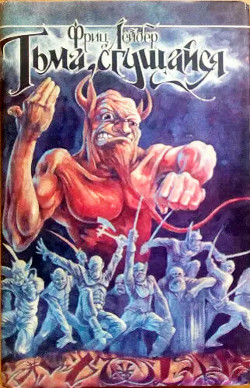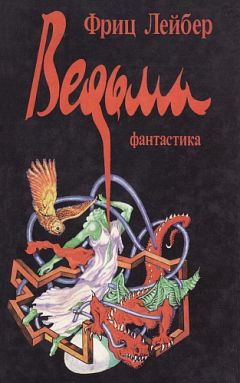рукопись, на которую он почти не смотрел (больше того, о которой даже не вспоминал с позавчерашнего дня). «Странное подполье». До чего иронично все складывается… На рукописи лежал разбитый бинокль, стояли телефон с длинным шнуром, большая, почерневшая от смолы, переполненная пепельница (но он не курил с тех пор, как пришел домой, и ему до сих пор не хотелось), шахматная доска с наполовину расставленными фигурами; рядом лежала плоская доска с мелом, призмы, несколько побитых в ходе игры шахматных фигур, и, наконец, стояли крошечные стаканчики и квадратная бутылка киршвассера, все еще открытая, как он поставил ее, намереваясь во второй раз угостить Фернандо.
Чем дольше Франц созерцал этот несуразный натюрморт, тем смешнее он казался, и Франц совершенно ничего не мог с этим поделать. Хотя его глаза и уши все еще автоматически следили за всем вокруг (и продолжали это делать), он почти хихикнул. Вечернему состоянию его ума была неизменно присуща некая глуповатая веселость, пристрастие к каламбурам, нарочито исковерканным банальными афоризмами и слегка психоделическими эпиграммами – этакое ребячество, порожденное усталостью. Он вспомнил чрезвычайно тонкое и тщательное описание перехода от бодрствования ко сну, сделанное психологом Ф. К. Макнайтом: короткие логические дневные шаги разума постепенно удлиняются, каждый следующий мысленный прыжок делается все неестественнее и страннее, и в конце концов эти шаги (без видимого перехода) превращаются в совершенно непредсказуемые метания невообразимой дальности, и человек уходит в сновидения.
Он взял карту города, которая так и лежала, расстеленная, на кровати, и, не сворачивая, положил ее, как покрывало, поверх всего беспорядка, образовавшегося на столике.
– Ну, кучка мусора, пора тебе и поспать, – с наигранно-шутливой лаской произнес он.
И положил линейку, которой пользовался для измерений, поверх всего этого, как фокусник, оставляющий свою палочку после представления.
Затем, все так же контролируя обстановку зрением и слухом, он полуобернулся к стене, где Фернандо нарисовал мелом звезду, и принялся раскладывать книги на постели, раз уж на столике не осталось места (так сказать, укладывать Любовницу Ученого на ночь); привычное, даже рутинное, манипулирование знакомыми вещами служило идеальным противоядием даже от самых диких страхов.
Поверх «Мегаполисомантии», страницы которой от возраста сделались уже коричневыми по краям, открытой на разделе об «электромефитическом городском веществе», он осторожно положил дневник Смита, тоже открытый (на проклятии).
– Ты очень бледна, моя дорогая, – заметил он, глядя на рисовую бумагу, – но притом лицо твое слева просто усыпано странными черными мушками, их там целая страница. Прямо олицетворение (а вот и каламбур) сатанистской вечеринки, в официальнейшем вечернем наряде, как в «Мариенбаде», в бальном зале, роскошном, как белый бисквитно-кремовый торт, где прогуливаются стройные борзые кремового цвета, похожие на благовоспитанных гигантских пауков.
Он коснулся плеча, которое главным образом состояло из большеформатного «Изгоя» Лавкрафта сорокалетней давности; страницы, потемневшие до светло-коричневого цвета, какого бывает скорлупа яиц вейандотских кур, были открыты на рассказе «Тварь на пороге».
– Только не расплывайся, как несчастная Асенат Уэйт, – шепнул он своей вымышленной Любовнице. – Помни, что у тебя, насколько я знаю, нет стоматологической карты, по которой можно было бы установить личность. – Он взглянул на другое ее плечо: выпуски «Wonder Stories» и «Weird Tales» без обложек, с обтрепанными краями, а сверху номер, содержащий «Эксгумацию Венеры» Смита. – Вот так гораздо лучше, – прокомментировал он. – Под червями и плесенью спрятан розовый мрамор.
Грудную клетку образовывала монументальная книга мисс Леттленд, кстати открытая на таинственной, провокационной и наводящей на размышления своим названием главе «Загадка молочной железы: холодная, как…». Он подумал о том, что писательница-феминистка странным образом исчезла в Сиэтле. Теперь никто и никогда не узнает ее дальнейших ответов на вопросы, которые она, судя по всему, старательно выдумывала от имени читателей.
Его пальцы прошлись по довольно тонкой, черной, в серых пятнах талии, сделанной из рассказов Джеймса о привидениях, – книга некогда насквозь промокла под дождем, а затем была тщательно высушена, одна навсегда сморщенная, обесцвеченная страница за другой; немного поправив украденную из библиотеки адресную книгу, образовывавшую ягодицы, все еще открытую на разделе «Отели», Франц тихо сказал:
– Вот, так тебе будет поудобнее. Знаешь, дорогая, ведь теперь ты вдвойне «Родос», 607… – и сам довольно тупо задумался, какой же смысл может нести эта фраза.
Франц услышал, как остановился лифт и открылись его двери, но не слышал, чтобы кабина уехала. Он напряженно ждал, но не расслышал ни стука в дверь, ни шагов в коридоре. Откуда-то из-за стены донесся слабый звук тихо открываемой или закрываемой неподатливой двери, и снова все стихло.
Он прикоснулся к «Символу паука во времени», лежавшему прямо под адресной книгой. Днем Любовница Ученого лежала лицом вниз, но теперь перевернулась на спину. Франц на мгновение задумался (что там говорила Леттленд?) о том, почему наружные женские половые органы сравнивают с пауком. Из-за клочка курчавящихся волос? Из-за того, что эти губы открываются вертикально, как хелицеры паука, а не горизонтально, как губы на человеческом лице или, согласно старинной легенде моряков, половые губы китайских девушек? Старый, измученный лихорадкой Сантос-Лобос предположил, что причина этому – время, требующееся, чтобы сплести паутину. Паучьи часы… И какая очаровательная форсунка для паутины!
Его пальцы, нежно, словно лаская перышки, миновали «Knochen-madchen in Pelze (Mit Peitsche)» – участок темного оволосения, сливающийся с мягким мехом (скорее, мехами), окутывающим девушек-скелетушек, – и двинулись на другое бедро, к «Ames et Fantomes de Douleur»; де Сад (или его посмертный фальсификатор), утомленный плотью, действительно хотел заставить разум вопить, а ангелов – рыдать (разве «Призраки боли» не должны быть «Муками призраков»?).
Эта книга, наряду с «Костяной девушкой в мехах (с кнутами)» Мазоха, заставила его задуматься о том, какое богатство смерти находится в его ищущих руках. Лавкрафт, умерший довольно рано, в 1937 году, писал до конца, решительно фиксируя свои последние ощущения. Смит (видел ли он тогда параментальные сущности?) намного отстал от него, примерно на четверть века, потому что его мозг рассыпался от микроинсультов. Сантоса-Лобоса лихорадка сожгла до состояния мыслящего пепла. И умерла ли исчезнувшая Леттленд? Монтегю (его «Белая лента» изображала колено, только бумага пожелтела) задыхался от эмфиземы, продолжая между тем составлять примечания о нашей самоудушающейся культуре.
Смерть и страх смерти! Франц вспомнил, насколько угнетающее впечатление произвела на него повесть Лавкрафта «Цвет из иных миров», которую он прочитал еще подростком, о том, как фермер из Новой Англии и его семья гнили заживо, отравленные радиацией, занесенной с края вселенной. И в то же время это было так увлекательно! Да ведь все эти сверхъестественные ужасы в литературных произведениях не что иное, как украшения, призванные изобразить саму смерть захватывающей и сохранить удивление и эксцентричность до самого конца жизни? Но, едва подумав об этом, он понял,