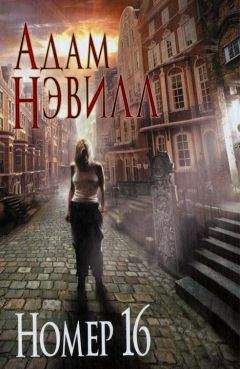меня содрогается все лицо. Этой злобной птице больше меня не клюнуть!
Ее голубиный череп ворочается под подушкой. Из-под простыней выбиваются ноги-веточки, усеянные коричневыми пятнами, но лишь тихонько шуршат, словно мыши за плинтусом. Когти разжимаются, сжимаются, разжимаются и замирают.
Я кладу свою большую голову-луковицу на подушку, чтобы усилить давление. Теперь наши лица близки как никогда, но мы друг друга не видим. Нас разделяет лишь чуточка пуха и немного шелка. От подушки пахнет духами и старушечьим телом. У меня в животе зарождается бурлящее ощущение торжества, отчего мне хочется по-большому.
Я шепчу слова сквозь разделяющую нас преграду. Провожаю ее в последний путь своим бормотанием.
– Мальчики из грузовика плакали, когда их тащили в душевую.
По матрасу чиркает длинный коготь.
– Им было страшно, но они не знали, что их будут мучить. Не понимали ничего.
Под простыней вытягивается костлявая нога.
– Как они выглядели на вашей тарелке?
Кривая ступня в последний раз дергается, и желтый ноготь цепляется за шелк.
– Вечером в зале заседаний звучал смех. Я вас слышал. Стоял за дверью и все слышал.
Тонкие косточки подо мной расслабляются и обмякают.
– А потом вы велели мне принести объедки сюда в белых пакетах. На лестнице они били меня по ногам. Очень тяжелые. И внутри все сырые.
Теперь она неподвижна. Подо мной лишь птичьи кости, окаменелости, завернутые в шелк, немножко волос и больше ничего.
Я остаюсь лежать на ней какое-то время.
Теперь, когда дело сделано, по телу разливается тепло. На коже под моей ночной рубашкой остывает белесый пот. Убираю подушку с лица госпожи Ван ден Брук и отступаю от кровати. Разглаживаю место, в которое утыкался ее клюв. Склонившись над ней, засовываю подушку за ее еще теплую спину.
Внезапно подо мной оживает одна из ее цыплячьих рук – и движется быстрей, чем ожидаешь от такого старого и тощего существа. Желтая когтистая лапа хватает меня за локоть.
Я опускаю взгляд. Лоб цвета яичной скорлупы прорезают морщины. Розовые глазки открываются. Ахнув, я пытаюсь вырваться.
Птичий клекот. Ее рот широко распахивается. В мое запястье вонзаются два ряда крошечных желтых зубов.
Теперь тону уже я. Моя похожая на воздушный пузырь голова, словно горячей водой, заполняется болью и паникой. Я пытаюсь вырвать свою кукольную ручонку из ее острого клюва. Она кряхтит и не отпускает. Как может такое старое создание, как госпожа Ван ден Брук, сделанное из одних мелких косточек и бумажной кожи, издавать столь низкие звуки?
Упершись пятками в коврик, изо всех сил отталкиваюсь, но ее тело устремляется за мной вместе со скомканными простынями, скользящими по матрасу. Рыча и шипя, она мотает головой, и мне кажется, что мое запястье ломается. Надо было догадаться, что сто семьдесят лет полной зла жизни не оборвать с помощью мягкой подушки посреди ночи.
Обезумев от боли, взмахиваю свободной рукой, и та ударяется о что-то твердое. Теперь у меня болят и костяшки – я задел ими тяжелую лампу. Силы уходят из моих ног прямо в коврик. Перед глазами пляшут черные точки. Я могу потерять сознание. Такое чувство, что ее зазубренный клюв пробил мне нерв.
Я валюсь на спину, стаскивая ее тощее тело с кровати. Оно беззвучно падает на пол. Встаю и стараюсь стряхнуть его с себя, словно футболку с узким воротом, которая вывернулась наизнанку и не слезает с головы. Слезы застилают мои глаза.
Тянусь к лампе на прикроватном столике. Моя рука сжимает горячее гладкое горлышко под самой лампочкой. Я стаскиваю лампу со стола и вижу, как толстое мраморное основание опускается на вцепившуюся в меня голову. Когда острый угол лампы ударяет ее возле уха, раздается глухой стук. Зубы разжимаются.
Высвобождаю руку из обмякшего клюва и, отступая назад, смотрю вниз. Трудно поверить, что из головы такой старой птицы могло вытечь столько жидкости. Жидкость черного цвета. Она курсировала по тонким шлангам и трубочкам сто семьдесят лет, и вот теперь впитывается в коврик.
Торопливо обматываю вокруг когтистой лапы белый провод от лампы и потуже затягиваю. Может, остальные подумают, что она сама свалилась с кровати и нечаянно сбросила лампу себе на голову. Затем подолом ночной рубашки вытираю все места, которых касались мои кукольные пальчики.
Выпархиваю из ее комнаты, словно привидение. Миновав длинный коридор, закрываю за собой входную дверь. Под светильником на лестничной площадке осматриваю кружок из кровоподтеков и порезов, оставленный ее клювом на моем одеревеневшем запястье. На вид все не так скверно, как казалось.
Не могу поверить, что Джемайма не голосит, двери не распахиваются, телефоны не звонят и жильцы в ночных рубашках не шаркают по лестнице. Но в западном крыле царит тишина.
Потом приходит дрожь.
По лестнице я спускаюсь на четвереньках, словно паук, у которого оторвали две пары ног. Возвращаюсь в свою койку.
* * *
Свернувшись калачиком в теплом гнездышке, которое устроил себе посреди кровати, натянув на голову тонкую простыню и колючее серое одеяло, я пытаюсь унять дрожь и прогнать образы, кружащиеся в моем огромном тыквообразном черепе. В нем столько свободного места, что в него, наверное, вмещается больше воспоминаний, чем в голову нормальных размеров. Снова и снова я вижу прожорливую птицу, когда-то бывшую госпожой Ван ден Брук, ее клюв, впившийся в мое запястье. Потом вижу, как увесистая лампа опускается с глухим звуком: тук… тук… тук… Я слышу лишь одно: как острый мраморный угол пробивает ее хрупкий, как вафля, пронизанный венками висок.
Что же я натворил в этом гигантском доме? Что со мной теперь будет? Все непременно узнают, что именно мои кукольные ручонки воспользовались подушкой и прикроватной лампой, чтобы уничтожить эту бескрылую стервятницу в ее же гнезде. Я спрашиваю себя, если перевести стрелки моих медных часиков назад, вернусь ли я в то время, когда я еще не прокрался к ней в комнату?
Внезапно лицо у меня сморщивается, и я плачу, сотрясаясь под одеялом всем телом. Потом встаю с койки и смотрю на верхний ярус, где храпит Уксусный Ирландец. Жалко, что я не он. У него в голове никаких кровавых картинок. Его неспокойные сны наполнены лишь мыслями о прозрачных жидкостях, которые он будет пить из пластиковых канистр.
Из-за царящего в спальне холода меня трясет еще сильнее. Запястье пульсирует. Мне хочется вернуться в кровать и свернуться в клубок. Как я когда-то лежал у мамы в животике. Пока меня не вырезали оттуда и мама не умерла.
Выйдя из спальни, я гляжу на дверь, ведущую в душевую.
Никто не кричит, не звучит