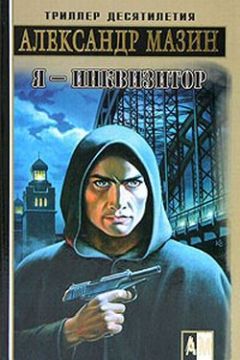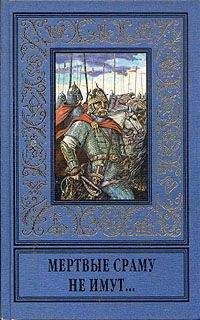Я-то знаю, сам таким был! — И подрыгав короткими ножками: — Да знаешь ли ты, кто я?
— Зло ты, — равнодушно произнес Игорь Саввич.
— Дурак! — сердито сказал мальчик. — Зло! Зло! Что не по тебе — все зло! Р-р-гав! А я ведь люблю вас!
— Любишь, — кивнул отец Егорий. — Мучить!
— Дурак! Кого любят, с того и спрашивают! Кому от тебя более всего достается? Ближним твоим! Кто дитя не наказывает, тот… как там дальше?
— Речи змеиные и слушать не стану!
— Пенек! — вздохнув, сказал мальчик. — Ну, возрази мне! Бог твой со мной поспорить не гнушался!
Отец Егорий молчал, уставясь в закрытое снежной накипью окно.
Мальчик ждал. Взгляд лазоревых глаз передвигался медленно с предмета на предмет. Трубка погасла.
— Скучный ты, — сказал, так и не дождавшись ответа. — Сам скучный, и мысли твои скучные. Даже усомниться толком не можешь. Убью я тебя. И душу твою возьму.
Мальчик щелкнул пальцами, и пред ним возник крошечный, сантиметров десяти, Игорь Саввич.
Мальчик положил пухлую ручку на голову образа, и отец Егорий ощутил пудовую тяжесть, легшую на макушку. Он хотел подняться, просто сдвинуться, но гнет усилился, вжал его в табурет. Мальчик взялся второй рукой за шею гнома, и стальной обруч пережал горло отца Егория. Он руками схватился за горло, побагровел…
Мальчик ослабил пальцы:
— Ну, скажешь что-нибудь?
Отец Егорий мотнул головой.
«Пес, — подумал он, — пес?..»
Стальной обруч вновь сдавил ему трахею.
Мальчик глядел с интересом. Одна светлая бровка его комично приподнялась…
Маленький Игорь Потмаков сидел на горячем песке. В двух шагах от него сползал вниз белесый языкрибоя. Чайки пластмассовыми игрушками подпрыгивали на волнах.
Рука Игоря сжимала твердый вафельный стаканчик, полный розового фруктового мороженого. Игорь лизнул выпуклую горку, зажмурился, лизнул еще, прихватил верхними зубами ледяной кусочек, открыл глаза и увидел пса.
Пегий вислоухий кобелек часто-часто дышал. Язык красной тряпочкой свисал сбоку. Коричневые, навыкате, глаза — на мороженом. Сидел, переминаясь иногда передними кривыми лапками, чуть поскуливал: «Ясно, что не даст. Но вдруг чудом…»
Игорек укусил еще раз. Ох, почему мороженое всегда так быстро кончается!
Песик заскулил чуть громче. Тоненько, будто свистел.
Игорек взглянул мельком, откусил еще крошку, тщательно изучил остаток. Почти половина.
Песик скульнул опять. Он подобрался поближе, протяни руку — коснешься круглой рыжей головенки. Игорь тяжело вздохнул. Откусил с краешка, с хрустящей вафельной корочкой… и положил остаток в перевернутую маску для плавания. Затем встал, стряхнул с трусов песок и, сделав три шага, плюхнулся в теплую воду.
Когда он вернулся, песик исчез. Маска была дочиста вылизана. Игорек вздохнул, все еще жалея мороженое (почти половина!), взял маску, ополоснул ее, надел, подсунул под резинку легкую пласт-массовую трубку, нырнул и повис над лохматыми от водорослей камнями. Крошка крабик бочком просеменил по песку. Игорек хотел схватить, но крабик улизнул под валун.
Лежать в воде лицом вниз так приятно. Солнце греет спину. Дышать совсем не трудно, хотя в изгибе трубки ворчит столовая ложка морской воды. А вот если бы подняться вот так, взлететь в воздух, как будто это вода, взлететь, поплыть над сонным побережьем, над разморенными солнцем пляжниками, над пирамидками кипарисов… Наверху не жарко. Папа говорит — там воздух холодней, чем внизу. Еще он сказал: дети — как ангелы. Маме сказал, но какая разница. Папа, он всегда говорит правду. Как ангелы. Значит, должны летать. Зачем ангелам рисуют крылья? Игорек знает — крылья им не нужны. Зачем крылья, если можно так, запросто, подняться над водой, лететь, лететь! А внизу белые крестики чаек, синяя, блестящая, как фольга, вода…
Игорек неловко наклонил голову, вода залила трубку, он нечаянно вдохнул ее, закашлялся, забил по воде руками и ногами…
…Ноги Игоря Саввича застучали о деревянный, вымытый им пол. Мальчик, помаргивая, прикрыв нежный ротик с белыми, выступающими, как у мышонка, резцами, глядел на посиневшее, набрякшее кровью лицо с неподдельным, жадным интересом…
…И вдруг взвизгнул, подпрыгнул на месте, уронил куколку, тут же растворившуюся в воздухе, закричал, отмахиваясь курительной трубкой от чего-то невидимого…
Игорь Саввич дышал. Горло его при каждом вдохе обдавало огнем, но это была ерунда. Главное, он дышал, дышал…
Его приятель-мулла, старичок-татарин с лицом доброго гнома, как-то рассказывал притчу. Об ученике, которого учитель взял покататься на лодке. И спихнул в воду. И когда ученик попытался всплыть, раз за разом топил лопастью весла. Наконец, когда ученик был уже совсем без сил, учитель вытащил его из воды и сказал: «Когда ты будешь так же стремиться к Истине, как только что — к воздуху, ты сумеешь ее узнать!»
«Пес, — подумал отец Егорий. — Пес…»
Мальчик взвизгнул еще раз, на руке у него появился кровоточащий след.
— Пес! Пес! — заверещал он, отмахиваясь трубкой от невидимого врага и тыча свободной ручкой в сторону отца Егория.
— Нет, — покачал головой Игорь Саввич. — Ты врешь!
И мальчик исчез.
Отец Егорий с трудом поднялся, добрел до стола и, плюхнувшись на стул, открыл Писание. Читать он не мог. Мог только видеть начертанные слова:
«…Ты простираешь тьму, и бывает ночь; во время нее бродят все лесные звери: львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе…»
Пламя в печи увяло. Побледнела электрическая лампочка под абажуром-тарелкой.
Уронив крупную голову на раскрытую Библию, отец Егорий спал.
Около девяти часов утра, весело топая сапожками, бодрый, румяный, крепкий, как сентябрьское яблоко, Степаныч вошел в кухню и увидел, что батюшка его спит, уложив щеку на раскрытое Писание и свесив вниз тяжелые руки.
Сделав знак шедшим следом грузчикам, чтоб не шумели, Степаныч приблизился к спящему, по очереди осторожно взял его набрякшие кровью руки и положил на стол рядом с головой. Взгляд его остановился на бороздах, обезобразивших поверхность стола. Потом на брошенной в углу кочерге, скрученной в спираль. Степаныч покачал головой, еще раз, внимательней, посмотрел на отца Егория, прислушался, убедившись, что дышит тот ровно, еще раз покачал головой и, оборотившись к грузчикам, распорядился шепотом:
— Обождите часок, мужики! Пускай батюшка поспит!