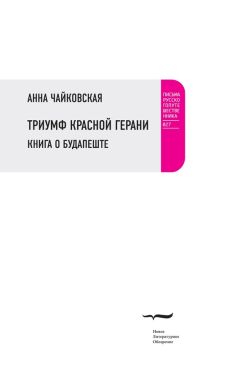Рита, прислушиваясь к себе, всматриваясь в себя и, впрямь, распускалась цветком, выводя тело в изломы, будто мнет нежное невидимая рука. Витька опрокинул вино в сухое горло, налил еще. Так просяще подавалась к ним танцующая, что хотелось взять на руки, унести, положить под себя и смять окончательно, утешая силой, додавливая, зная, что можно все, потому что на смятом вырастет снова вот эта непреходящая нежность.
— И ее хочешь…
Яша торжествовал, взгляд его будто снимал кожуру с лица, как с яблока. Когда музыка стихла, захлопал, кивая, послал Рите поцелуй:
— Подожди там, милая, никуда не уходи.
Повернулся к гостю:
— Можешь сегодня двоих взять, считай, угощение тебе. И посмотришь сам, какая она будет. Вот как… — не найдя слов, потянулся и захватив в клешню жесткой руки мандарин из вазы, сдавил. Раскрыл ладонь, показывая нежную яркую кашу:
— Вся такая, хоть ешь ее ложкой. Ценная девочка. Но только имей в виду. Обе девки незайманные и ты их ни-ни. Пока что. А там посмотрим, как договоримся.
— Как? — Витька сквозь желание и хмель вспоминал значение слова, сказанного Яшей, — ты хочешь сказать?
— Ну да. Это брат, одна из самых валютных валют. На том стоим, когда ездим.
— А как же? Утром?
Яков Иваныч отправил в рот раздавленный мандарин, слизывая с ладони оранжевую мякоть:
— Как. А вот по-всякому. Качество такое у моих курочек, все могут, понимаешь?
Витька смотрел, как Рита, вертя в руках снятый лифчик, стоит над плечом диджея, что-то показывает ему в стопке дисков, встряхивает головой и темные волосы почти полностью закрывают спину, прячут полоску стрингов и кажется, нет на ней ничего, кроме туфелек с паутинными ремешками. Все залито спокойным медовым светом, сонным уже, с нежными цветными бликами иногда по краям кадра.
И подумал, глядя из темноты на яркую картинку, — не хватает в ней утреннего: темного пятна на заднем плане чуть сбоку, мальчишки-ровесника со его ненужной любовью. Нет баланса.
Но…
— Хочешшь, — уверенно шевельнулась Ноа на коже, лаская медленно и незаметно для всех, будто влюбленные руки трогают, играя.
И понял, да. Хочет.
Старые города похожи на печать, поставленную огромной рукой на бумагах мира. С размаху, увесисто, так, что линии и закорючки оттиска будут и будут, обрастая завитушками, перекрываясь более свежими линиями, но снова появляясь из-под них. Меняются границы и очертания города, он дышит в такт времени, но не уходит, стоит там, где когда-то кто-то большой поставил его печатью — именно в этом месте.
Лежит мегаполис, расплылись от времени старые чернила, размываются очертания краев. Слетают на город сезоны, времена года, как листки бумаги, укладываясь стопкой времени. А он есть и есть, проницая всю эту кипу, печатью на одном и том же месте листа. Или уже стержнем, на который листки наколоты.
Белый лист зимы, черная печать города на нем. Дышит толстым паром из гороподобных градирен, заменившим узкие дымы из отдельных прежних труб. А когда печать города на лике холмистой равнины поблекнет и смоется временем почти до невидимости, будут ли стоять они подобно египетским пирамидам? Или, построенные лишь для пользы, без цели древних строителей пирамид — пережить само время, — развалятся, чтоб археологи будущего гадали о назначении утраченных построек? Видимо, да.
А внутри черных и серых линий живут и дышат те, для чьего тепла строились пузатые колоссы. Деловито, на бегу, в заботах каждого дня готовятся к празднику времени. Постареть на год, проехаться на одно деление вселенских часов, оседлав самую тонкую стрелку. Щелк… скажет механизм через неделю, дернется стрелка и, замерев на человеческую секунду между годом умершим и годом родившимся, жители мегаполиса засуетятся, заглушая мерный ход большого времени стеклянным тиканьем звенящих бокалов. И развешанная над черным и серым мишура праздников, не изменяя разноцветного блеска, уже будет — из прошлого, ждать, когда ее снимут. Что-то выкинут, а что-то спрячут до следующего …щелк…
«Витюшка, милый, привет! Очень по тебе скучаю, а ты все молчишь. И телефон твой не отвечает. У меня все хорошо, даже странно как-то, как хорошо. Мы с Германом и Ингрид дважды ездили в небольшие городки, высматривали всякое — для меня. Я решила открыть в Москве галерею. Только не смейся, небольшую такую и не пафосную, а Кутенок уже знает и посмеялся, что теперь всегда будет знать, где меня найти. Похоже, он меня любит всерьез. А я… Знаешь, когда не стало Сережки, я все думала, искала, получается искала новой любви, а на самом деле нет. Искала того, кому я буду нужна, кого поддержать.
Попробую объяснить, как сумею.
Я жила в реальности. И думала, что все материальное всегда материальнее нематериального. Вот такие словесные завороты, но плевать, главное, чтоб было понятно. И потому, когда я встречалась с такими, как ты, друг мой, я что-то чувствовала, но не знала что. И сразу переводила все в знакомые вещи. Если мужчина меня поразил, если думаю о нем, если меня тянет к нему страшно, значит это любовь или хехе страсть. Я никогда фанаткой не была, по рокерам не страдала, фотографии известных красавчиков под подушкой не прятала. Но если человек что-то мог, не просто умел лучше всех, а если в этом умении было зерно, ну, как тебе сказать? Зерно, или — Дар. Когда то, что он делает — живое, понимаешь, то меня тянуло к нему. Не к вещам, что он делает, а к нему самому. А сама-то я так не могу, знаю. Ничего не могу! Ну то есть, совершенно средняя московская барышня, удачно замужем. Рисовать пыталась. С Нинкой пыталась дизайнерскую одежду лепить. Еще что-то по мелочи. Но без настоящего дара.
Тот танец в подземелье в Каире все изменил. Я увидела таких же, как я. Познакомилась с Ингрид и Германом. Тогда поняла. Мой талант — видеть чужие таланты. Увидеть Дар, когда он только рождается. Быть рядом. Сделать то, что могу для него. Да хотя бы просто кивнуть и сказать „Да! Есть!“ и тем держать мастера и дар его. Поняв, я и другое поняла, почему с самого детства вечно уходила гулять не с теми мальчиками, дружила не с теми девочками. С теми, над кем смеялись.
В Каире поняла, очень много во мне силы, и надо использовать ее, а то вся перегорит.
И теперь мне не надо, как раньше, устраивать все через постель, к примеру. Я могу просто не проходить мимо тех, в ком есть дар. Помогать. И пусть кто-то лучше разбирается в живописи, в литературе или в фотографии, к примеру. Но я умею чувствовать живое тепло, которое идет от мастера. Это — мой Дар.
Я сильно выросла за последнее время. Я плюю на чужие мнения и насмешки, я сама для себя важнее всего. Это эгоизм? Но, как только я так решаю для себя, сразу получается, что и кому-то еще становится лучше! Эх, не тому нас учили, да? Не думай о себе, думай о близких. А надо сперва о себе и тогда уж и близким станет хорошо. Настоящим близким.