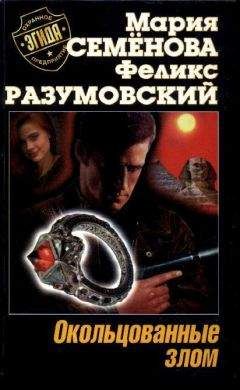Нырнули в темный туннель подворотни: тусклая лампочка, отбитая штукатурка, лужа блевотины у стены. Оказавшись в мрачном проходном дворе, где на запорошенных снегом мусорных баках ловили удачу коты-беспризорники, Катя сразу ощутила ностальгию по золотым временам града Петрова. Ей сделалось грустно. Ах, как хорошо здесь, наверное, было раньше, когда ажурные, чугунного литья ворота запирались на ночь, звонкоголосая жизнь била ключом, а важный дворник с блестящей на солнце бляхой метлой гонял линявших от полиции большевиков! А что сейчас — вонь, темно, грязно, лишь редкий перебравший «Балтики» прохожий забредет сюда помочиться, да из-за обшарпанных стен послышатся вдруг матерные стоны угодивших в классовый тупик пролетариев. Под какой же откос ты катишься, паровоз российский?
Астахова же паскудного Катиного настроя не разделяла, с ходу отыскав нужный подъезд, она мужественно перешагнула подозрительное желтое пятно на снегу и дернула входную дверь.
— Осторожно, не вляпайся. — Подполковница придержала подругу за локоть, и, поднявшись, они вскоре уже стояли перед квартирой номер семь.
На стене у двери было выведено три звонка, напротив каждого фамилия. Антонина Карловна уверенно выбрала Горлохватовых и надавила кнопку. Не реагировали долго. Затем раздался грохот, будто бы рушили мебель, кто-то громко матюгнулся, и мужской развязный голос не совсем внятно поинтересовался:
— Какого хрена надо?
— Открывайте, Горлохватов, милиция.
Дверь приоткрылась, в проеме показался нечесаный мужик в тельняшке и изрядном подпитии. Сунув ему в опухшую морду удостоверение, Антонина Карловна напористо вошла.
— Подполковник Астахова. Супруга где? Горлохватов мерзопакостно улыбнулся:
— Так она, товарищ полковник, там же, где и все. На Южном кладбище. Бог, как говорится, прибрал. — Он заржал и пьяно икнул. Наверное, это было действительно смешно.
— Что-то он перепутал, — Катя брезгливо сморщилась, — надо было бы тебя раньше.
— Дак он бы и меня прихватил, кабы я не нажрался тогда в стельку. — Горлохватов продолжал довольно лыбиться. — Али не слыхали? Автобус-то взорвали, когда Ксению хоронили? Сразу всей родне братская могила. И соседям заодно. — Он опять икнул, пошатнувшись, прислонился к стенке. — Так что, как говорится, курить мы, может быть, и не будем, а вот пить никогда не бросим!
— Да уж, — Астахова вздохнула, — может, оно и верно. Взгляните-ка, Горлохватов, знаком вам этот человек?
— Ешкин кот, да это ж Витька Башуров, сынок Ксении. — Он поднес фотографию поближе к свету, снова икнул. — Точно он. Что ж я, слепой? Он ведь тоже на похороны приезжал.
— Посмотрите еще раз, Горлохватов, вы уверены, что это действительно. Виктор Башуров?
Хозяин обиделся:
— Да что ж я, в дупель пьяный, что ли? А ну, пойдем! — Шаркая по полу заскорузлыми пятками, он исчез в своей комнате и тут же вернулся со связкой ключей. — Пойдем покажу, раз на слово не веришь, гражданка полковник.
Открыв комнату Ксении Тихоновны, он щелкнул выключателем и протянул корявый палец в сторону серванта:
— Ну? Теперь веришь?
Действительно, с увеличенной цветной фотокарточки в рамке смотрел улыбающийся старший лейтенант Мишаня Берсеньев.
Часть вторая. ПРОКЛЯТЫЙ РОД
Macht geht vor Recht[70].
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Пролог запоздалый. 1570-й год от Р. X.
В просторной, топившейся по-белому мыльне, что неподалеку от летних хором боярина Бориса Федоровича Овчины-Оболенского, было смрадно. Чадно горели смоляные светочи, крепко пахло потом, кровью и дерьмом человечьим, потому как с третьего подъема, будучи бит кнутом нещадно, а затем спереди пален березовыми вениками, не стерпев муки адской, хозяин дома обделался.
А случилось, что третьего дня сын боярский Плещеев, свахи коего дважды получили от ворот поворот, сказанул за собой государево дело. Будто бы Оболенский Бориска злыми словами и речами кусачими поносил самодержца царя и грозился многие беды и тесноты на Руси учинить. И в том сын боярский, не побоявшись Страшного суда, божился и целовал крест на кривде. Видать, совсем головушка его помрачилась от любви, змеи лютой, к дочери Овчины-Оболенского Алене Борисовне.
Лихое было время, неспокойное. Грозный царь Иоанн Васильевич поимел на старых вотчинников мнение, будто бы они замышляли смуту великую и подымали добрых слуг его на непокорство. Не мешкая начальный человек государев Григорий сын Лукьянов Скуратов-Вельский повелел кликнуть своего стремянного Никитку Хованского.
Отыскался тот на Балчуге, в кружальном дворе, и как был — злой, о сабле, в кармазинном кафтане, рысьей шапке да зарбасных лиловых штатах — серым волком метнулся по державному повелению. А с собой взял верных поплечников, в коих были худородны кромешники, подлы страдники да кабацка голь с протчей скаредною сволочью, величаемые ныне опасною царскою стражей, суть опричниной. Студное дело приходилось им не в диковинку. Разогнав хозяйскую дворню, порубали люди Хованского держальников да холопов боярских острыми саблями, а самого боярина подвесили в мыльне на ремнях, принимать смерть жуткую, лютую.
На дворе, светлом от огня полыхавшего пожарища, было суетно: громко рыдали, расставаясь с первинками, сенные девки, опричники, уже успевшие излить семя, скидывали в кучи дорогую утварь, деньги, одежды богатые, хвалились, а из брусяной избы доносился гневный голос замкнутой там до времени Алены Борисовны.
Между тем седовласая голова Оболенского свесилась на окровавленную грудь, и, прижав длань свою точно супротив сердца боярского, раскатился Хованский злобным смехом:
— Жив еще старый пес, а как оклемается, посадить его на кол. Да чтобы мучился поболе, острие бараньим салом не мазать. Гойда! — махнул он рукой своему подручному Федьке Сипатому и, ни на кого не глядя, пошел из мыльни вон, станом высок, из себя строен да широкоплеч.
Хорошо жил боярин Овчина-Оболенский, богато. В брусяной избе лежанка изразцовая, вдоль увешанных драгоценным оружием стен длинные дубовые лавки, а полки ломятся от златой да серебряной посуды. Однако не на эту лепоту уставились опричники, — с дочери боярской, красоты неописуемой, глаз отвесть не могли. Тугая грудь под лазоревым летником, аксамитовым, при яхонтовых пуговицах, коса темно-русая до подколенок, на ногах сапожки сафьянные золотым узором поблескивают. Ой, хороша была Алена Борисовна в свои шестнадцать девичьих годков! Одначе как там в Писании-то сказано? «Да ответят дети за грехи отцов своих»?