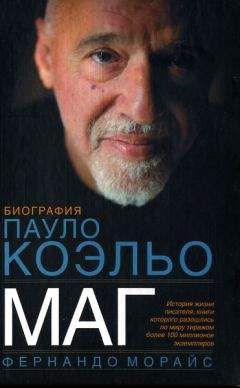Поскольку Батис добровольно превратился в узника маяка, вооруженного винтовками, а омохитхи не появлялись, улучить момент нам было нетрудно. Правда, Кафф тиранил свою заложницу сильнее обычного, но делал это совершенно непоследовательно: он то удерживал ее около себя, то, наоборот, прогонял прочь. Ночью она страдала, а днем томилась без дела. Я не раз замечал это, когда мне приходилось подниматься на верхний этаж, чтобы прихватить что-нибудь съедобное. Пока Батис нес караул на балконе, Анерис наводила порядок в комнате. У нее были весьма своеобразные представления о том, как должны располагаться предметы. Полки казались ей местами ненадежными, и она ими пренебрегала. Ей нравилось расставлять вещи на полу плотными рядами и закреплять каждую сверху камешком.
Когда я освобождал ее, мы прятались где-нибудь в лесу. Малыши несколько раз заставали нас вместе, но, по правде говоря, не обращали на нас внимания. Всем известно, что по глазам детей можно прочитать их мысли. Им свойственно принимать как должное то, что они видят, а не следовать заученным истинам. Невиданное раньше просто кажется им новым, а вовсе не странным. Когда мне это удавалось, я потихоньку старался понять отношение Анерис к малышне: оно было практически безразличным. Она просто воспринимала их как дополнительное неудобство. Они могли бы стать связующей линией между ней и ее сородичами, могли бы вызвать у нее воспоминания и принести ей новости из ее мира. Однако Анерис не проявляла к ним ни малейшего интереса и уделяла им столько же внимания, сколько человек – муравьям. Однажды я увидел, как она ругала Треугольника. Если малышня вообще была назойливой, то этот стоил целой дюжины. Она распекала его, а проказник преспокойно говорил ей одно и то же, словно был глух к ее брани. Эта способность моего подопечного всегда казалась мне исключительно ценным свойством, но она считала ее худшим из недостатков. Любому стороннему наблюдателю было ясно, что ярость Анерис была направлена вовсе не на бедного малыша, а против ее сородичей. Она отреклась от них, так же как я отрекся от людей. Дело было именно в этом. Нас отличало только то, что Анерис и омохитхов разделяло совсем небольшое расстояние, тогда как люди были от меня бесконечно далеко.
Зачем я задавал вопросы, на которые невозможно найти ответа? Я был жив. Меня уже давно могло не быть на этом свете, а я жил. Надо удовлетвориться этим и не просить большего. Чудовища давно могли бы разорвать меня в клочья, и мой труп разлагался бы на дне Атлантического океана. И тем не менее я находился рядом с ней и мог ласкать ее, не зная ограничений, забыв обо всем. Однако мои попытки стать ей ближе каждый раз заканчивались неудачей.
Мог ли я удивляться этой настороженности, зная, как она жила на маяке раньше? Как бы то ни было, ее отношения с этим человеком переплетались с моими. Более того, сначала я даже стал соучастником его жестокости. С другой стороны, без сомнения, никто не удерживал ее на маяке силой. Казалось, она не испытывала к Каффу ни ненависти за совершенное над ней насилие, ни благодарности за предоставленную защиту. Словно этот ограниченный человек, который грубо овладевал ею, унижал ее и бил, был просто неизбежным злом и не более того.
Любовные ласки приоткрывали какую-то иную дверь, я читал это на ее лице. Она смотрела на меня словно через толстое стекло, с выражением, которое легко можно было спутать с нежностью. Эти всплески желания, несмотря на всю их убогость, все же немного приближались к какому-то подобию любви. Но это был только мираж. Даже под пыткой она бы не стала отвечать мне лаской. Когда я пытался начать с ней разговор с откровенностью, достойной нашей участи двух самых одиноких на планете любовников, когда обнимал ее слишком крепко, глаза Анерис затуманивались, как у умирающей птицы.
Однако не стоило даже пытаться описать нашу жизнь, она не следовала никакому сценарию; маяк принадлежал к области непредсказуемого, и наша история потекла далее по очень извилистому руслу.
Однажды малыши не появились в обычный час. Ближе к полудню, когда стало очевидно, что они уже не придут, Треугольник расположился на скале, как орленок, и стал пристально смотреть на океан. Но его тревога длилась недолго. Вскоре он уже обнимал мое колено и извивался всем телом. Таким образом проказник выражал свое нетерпение, когда ему хотелось играть.
Больше всех переживал по поводу исчезновения малышей я. Они были единственной отдушиной на этой обожженной порохом земле. Анерис пребывала в своем обычном непроницаемом молчании. Батис ощущал прилив энергии, он был счастлив, что могло показаться странным. Но таковым не являлось. Хотя Кафф никогда бы в этом не признался, он понимал, что малыши были каким-то сигналом. Сейчас, когда они исчезли, его порядок восстанавливался. И точка. Ему не приходило в голову, что вслед за исчезновением малышей могло произойти какое-то новое событие.
Я наблюдал за ним, когда он раскладывал боеприпасы, устраивал новые заграждения, готовил новое оружие. Батис соорудил из пустых консервных банок некое подобие органа, в трубы которого положил оставшиеся сигнальные ракеты, чтобы стрелять ими, как снарядами. Он много болтал и даже смеялся. Возможность обстрелять нападающих разноцветными ракетами чрезвычайно его вдохновляла. Кафф шутил по этому поводу, но меня нисколько не радовал его черный юмор.
Это было воодушевление умирающего. Выиграть битву мы не могли. Держаться до последнего патрона, возможно, оправдывало его понимание жизни, но никогда бы ее не спасло.
Мы пообедали вместе.
– Возможно, они не станут дожидаться ночи, – сказал я.
– Можете на меня рассчитывать, – повторял Кафф. – Я им задам перца.
И смеялся, морща нос, как кролик.
– А что, если они не собираются нас убивать? Вы все равно будете стрелять?
– А вы? – спросил он. – Не будете стрелять, если они попытаются это сделать?
Анерис сидела на полу, скрестив ноги. Ее глаза были открыты, но смотрели в никуда. Она не шевелилась, точно спала наяву. Я подумал, что наши баталии вертятся вокруг нее, как планеты вокруг солнца. Батис улегся на кровать, заскрипели пружины. Его огромный живот то поднимался, то опускался. Кафф не спал, но и не бодрствовал, так же, как Анерис. Что делал я посередине комнаты с винтовкой в руках? Мой разум говорил, что я держал ее из предосторожности, а сердце говорило, что я делал это по обязанности. Батис открыл глаза. Он смотрел в потолок не мигая и, не поднимаясь с кровати, спросил:
– Вы хорошо закрыли дверь?
Я понял ход его мыслей. Таким образом, он по-своему принимал возможность того, что омохитхи придут при свете дня. Но эта фраза вызвала у меня и иные чувства. На протяжении последних дней Кафф смотрел сквозь пальцы на мое решение опекать Треугольника. Где он был сейчас? Батисом руководили исключительно практические соображения: он боялся, что озорник учинит какую-нибудь глупость во время боя. Меня раздосадовало, что именно Кафф напоминал мне об этом.