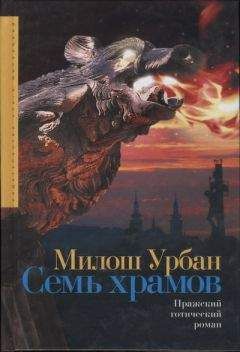Он вспомнил меня, он умел наблюдать так же хорошо, как я. И немедленно пристал с вопросом — что это я делал в пятницу в институте? Поисками знакомого я отговориться не мог, он наверняка знал там абсолютно всех, поэтому я с каменным выражением лица заявил, что занимался расследованием, а каким именно — это служебная тайна. Услышав мои слова, полковник сощурил глаза, однако ничего не сказал. Только вынул из кармана носовой платок и приложил его к правому уху. Труг пожал плечами и задал вопрос, который заставил меня поперхнуться кофе: есть ли что-то общее между моим расследованием и разбитым окном в анатомичке? Я бросил взгляд на Олеяржа. Тот, наполовину скрывшись за батистовым платком, еле заметно покачал головой. Тогда я сказал, что впервые слышу о каком-то разбитом окне.
Во время еды Труг смачно повествовал нам о результатах теста на присутствие крови на лезвии пилы. Тест оказался положительным. Я довольно улыбнулся. Олеярж, который сегодня владел собой на удивление хорошо, молча кивал. Он одарил меня взглядом, в котором одобрение (удвоившее мое довольство собой) сочеталось с иронией по поводу моей чисто детской радости. Когда эту радость заметил Труг, он мрачно повернулся к полковнику и дальше уже говорил только с ним. Мол, ему приятно было нас обрадовать, но, к сожалению, не обойдется и без разочарования. По собственной инициативе он попытался сравнить образец крови с пилы с кровью из найденных ног, но у него ничего не вышло. Грязная вода Ботича, полная химикалий, так разрушила металл, что эксперт вообще с трудом сумел распознать присутствие крови. Ее группа и давность образца неизвестны.
После обеда я отправился к старику, позвонившему во вторник в полицию. Он жил неподалеку, на Липовой улице, сразу возле перекрестка, над которым тянулся к потемневшему небу конус Святоштепанской башни.
Человека звали Вацлавек, и он отказался впустить меня, потому что я был без удостоверения. Мой совет позвонить в полицейское управление, где меня знают, он проигнорировал. Говорил он со мной через щель — дверь была на цепочке. Я плохо видел его лицо, разглядел только красную полысевшую макушку, крючковатый нос, мешки под воспаленными глазами и морщинистую тощую шею. Он был нелюбезен, лишь повторял, что все уже рассказал полиции. Корона пропала, он сам это видел, кто-то ее украл, а потом вернул на место. Большего я от него добиться не мог, и если бы не моя нога в щели, он вообще захлопнул бы дверь. Я попробовал перебить его несвязные речи вопросом, что же он видел, когда «этой самой короны» там не было, но он в ловушку не попался, продолжая твердить, что ничего. Я предпринял последнюю попытку выяснить хоть что-нибудь — спросил, является ли корона, о которой он говорит сейчас, той самой диадемой, о которой он говорил в прошлый раз. В ответ Вацлавек проворчал, что да, конечно, и с силой наступил на мою ногу, заклинившую дверь. Больно мне не было, однако я инстинктивно ее отдернул. При этом я подцепил ботинком стариковскую тапочку и вытащил ее наружу. Дверь захлопнулась. Я звонил, но он не отозвался. Тогда я сунул тапочку в дверную ручку и отказался от дальнейших попыток побеседовать со свидетелем исчезновения короны, «принадлежащей нам всем». В душе я выбранил полковника, поручившего мне дело, с которым не справился бы и самый талантливый из его детективов.
Как я и предполагал, снег быстро растаял, но было по-прежнему холодно. Я мечтал о теплой комнатке в квартире госпожи Фридовой и о книгах, которые вот-вот начну читать, растянувшись на мягком ковре. Если бы я знал, что ждет меня после возвращения, я бы не стал так торопиться.
Только я переступил порог, как госпожа Фридова сообщила мне, что ключ, которым я открыл дверь, я должен вернуть ей еще до конца месяца. Она стояла в передней и тряслась как осиновый лист; это было негодование, но в ее глазах я прочитал и страх. Эти ошеломляющие слова наполнили меня ужасом, однако же я спокойно попросил у нее объяснений. Мы уселись в ее маленькой комнатке, куда я заходил только изредка. Над телевизором, прятавшимся под вязаной накидкой с изображением роз и гранатов, висело потемневшее распятие.
У госпожи Фридовой дрожал голос. Показывая на коридор и на дверь в мою комнату, она заклинала меня всем святым выбросить «эту вещь». Я не понимал, о чем она толкует. Этот дьявольский цветок, визжала квартирная хозяйка и часто крестилась. Я понял, что она имеет в виду мою дикую виноградную лозу, и против воли улыбнулся. Я сказал, что если дело только в этом, то я готов немедленно отнести растение на помойку. Но она мотала головой и не успокоилась даже тогда, когда я предложил платить за комнату на пять сотен больше. Она лишь оскорбилась и утвердилась в своем решении. Начала кричать, что из меня никогда не выйдет ничего путного, что я нигде не могу задержаться надолго, что я бросил учебу и что меня выгнали даже из полиции. Я возразил, что в полицию меня взяли обратно, хотя и с испытательным сроком, и что я работаю еще и в другом месте. Но она меня точно не слышала. Она, мол, и так слишком долго молчала и только молилась за меня, но того, что я займусь колдовством, она все же не ожидала. Причитала, что пригрела на груди змею и что все могло кончиться тем, что я разрубил бы ее на куски. Ее слова одновременно разозлили и позабавили меня. Где-то глубоко-глубоко в душе я рассмеялся безнадежным смехом — преступники угрожают меня убить, работодатель не относится ко мне всерьез, но зато своей квартирной хозяйке я внушаю смертельный ужас! Я сказал, что она слишком недоверчива и судит о других по себе.
До сих пор я пребывал в уверенности, что госпожа Фридова — особа хотя и эксцентричная, но все же приятная, и мне никогда не приходило в голову обидеть ее пускай даже одним неосторожным словом. Но, очевидно, за эти годы во мне накопилась неприязнь, о которой я и не подозревал. Ее ненависть больно ранила меня, и я, глупец, решил вернуть ей эту боль.
Я намеревался извиниться, но было уже поздно. Моя реплика явно задела квартирную хозяйку за живое. Госпожа Фридова моментально превратилась в жалкую старуху. Она тяжело дышала и, прижав к морщинистой шее костлявую руку, таращила на меня близорукие глаза. А потом пошло-поехало: мое дело плохо, потому что «этот цветок» еще вчера утром был всего лишь засохшей виноградной лозой, а сегодня после обеда, когда она вошла ко мне, чтобы открыть окно, ее чуть удар не хватил — к ней тянулись побеги, похожие на щупальца гигантской каракатицы, нет, не надо ее перебивать, она знает это растение и должна была предпринять нужные шаги сразу, как только я его принес; я сорвал его на склоне под Карловом, где на протяжении веков предавались смертному греху разврата и где убийства были самым обычным делом, в тех проклятых местах колдуньи устраивали шабаши и скакали на черных козлах с зелеными глазами; и повсюду, где творились эти бесчинства, вырос бородатый виноград, таким образом Бог покарал нечистое место… и не приведи Господь, чтобы уродились гроздья, потому что они вспухли бы, и лопнули, и выпустили бы в мир чертиков, зараженных чумой, а те потом заразили бы весь город и погубили бы в нем все живое. Что я мог на это возразить? Я встал и ушел в свою комнату. Там мой взор упал на странные белые волокна, свисавшие из цветочного горшка. Они и впрямь уже достигали пола и выглядели весьма непривлекательно, но безусловно не тянулись ко мне, словно щупальца, и вовсе не грозили смертью. Я внимательно рассмотрел их вблизи, поднеся к окну, при сереньком дневном свете. И сразу понял, что ничего общего с виноградом они не имеют, потому что сама лоза погибла. Да, побеги росли из ее тела, но это были паразиты, подобные спорынье и, возможно, столь же ядовитые. Значит, все-таки плесень — принюхавшись, я учуял запах пенициллина. Растение, разумеется, загубил я сам: в мертвый панельный дом я принес кусочек Средневековья. Романтические замыслы рушатся очень часто.