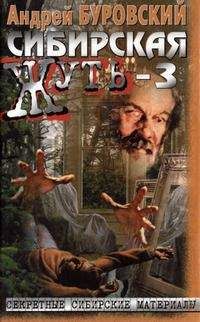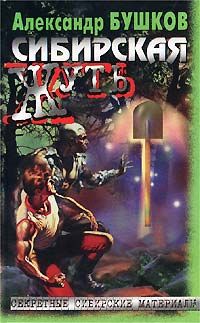Но другие, и тоже неглупые люди полагают прямо противоположное: дегенерат Колька с самого начала просто не мог не пристать к этому берегу именно потому, что уродился идиотом, и ничего тут не поделаешь. Эти люди полагают, что корень зла как раз в том, что папа Кольку еще мало порол: вот если бы начал пороть раньше и свирепее, то, глядишь, и Колька не посмел бы примкнуть к революции и заниматься прочими гадостями.
А Колька, что тут поделать! Гадостями Колька занимался хотя бы уже в том смысле, что совершенно не учился и сидел по два и по три года в каждом классе. Современный читатель уже не помнит, наверное, что такое вообще второгодник. Современная педагогическая система очень гуманна, и даже самого отпетого идиота считается полезным аккуратно переводить из класса в класс: нельзя же наносить психологические травмы деткам! К тому же сейчас высокогуманные педагоги всерьез считают, что все дети очень одаренные и что это фашизм — воображать, будто одни дети умнее других. Все люди, всех возрастов не бывают лучше или хуже друг друга, а бывают разными, и только. Поэтому детям лучше бы вообще не ставить никаких оценок, а если приходится ставить, то лучше ставить все оценки совершенно одинаковые. И уж тем более совершенно немыслимо одних детей переводить из класса в класс, а других — не переводить! Это и есть подчеркивание зловредной выдумки, будто одни лучше других, то есть интеллектуальный фашизм…
К чему приводит действие этого высокогуманного принципа, видно очень хорошо — и уровень получаемого образования, и качество выпускаемых специалистов неуклонно снижаются уже лет пятьдесят, и к чему придет вся мировая цивилизация, сказать трудно. Но во времена, о которых идет речь, документ об образовании действительно что-то реально означал, и если человека переводили в другой класс, то, уверяю вас, он знал материал предыдущего года обучения! Попробовал бы он не знать!
Вот Колька материала не знал, и его, соответственно, в другой класс не переводили; чем дальше, тем оригинальнее смотрелся здоровенный жлоб, учащийся вместе с детьми на 2, а потом и на 4 года младше. Вообще-то, в училище шли в девять лет, но сердобольный домашний доктор пообщался с Колькой, поспрашивал его о том, как он живет и чем интересуется, и посоветовал родителям отдать Кольку не в гимназию, а в училище, и не в девять лет, а на год позже… Пусть поживет, окрепнет до училища. Колька пошел в училище в десять лет, в первом классе он сидел два года и целых три года — во втором; к концу второго класса ему исполнилось пятнадцать лет, и он странно смотрелся на фоне десяти-одиннадцатилетних соучеников.
Единственное, что еще хоть как-то спасало Колькину репутацию, — это участие в нелегальном марксистском кружке. Началась война, а кружок изо всех сил вел пропаганду, согласно которой нужно было перевести войну империалистическую в войну гражданскую и начать экспроприировать экспроприаторов, то есть, говоря попросту, начать грабить все, что плохо лежит, и самом определять, что именно лежит плохо… Такую пропаганду, разумеется, в военное время категорически невозможно допустить, и ни одно государство никогда ее и не допустит.
Но зато прогрессивное общество вполне серьезно считало, что государство в Российской империи — устарелое и гадкое, что как раз такая пропаганда и полезна для революционного взрыва и обновления всего общества. Какие бы вредные и опасные идеи ни пропагандировали эсеры, марксисты всех толков, анархисты и прочая нечисть, какие бы бредовые идеи революционного переустройства общества они ни толкали, это принималось только что не восторженно. И даже когда действия радикалов несли увечья и смерть самим людям из общества, они с упрямством, достойным лучшего применения, гнули ту же убогую линию.
Вот в Севастополе прогремел взрыв: эсеры пытались убрать одного из царских сатрапов. Сатрап-то как раз и не вышел на прогулку в этот вечер, а взрыв погубил 12 совершенно непричастных людей, искалечил, ранил и обжег несколько десятков. И адвокаты (!!!) уговаривают пострадавших и их родственников — не подавайте заявлений, не пытайтесь преследовать преступников! Ведь взорвали заряд люди, которые вершат великие дела, собираются переустраивать Российскую империю, строить новое, справедливое общество. Как же можно их останавливать?!
И вообще: если вы требуете наказания преступников, вы выступаете вместе с (страшно подумать!) жандармами и царскими сатрапами, поддерживаете правительство душителей народной свободы и насильников над народом, пролетариатом и трудовым людом. В общем, кошмар…
Самое удивительное, что многие забирали уже написанные заявления, а свидетели отказывались давать показания или всячески запутывали следствие: нельзя ведь давать показаний против людей, вершащих столь великие дела в интересах трудового народа.
Так что и в Красноярске все знали, конечно же, кто входит в разбойничье подполье, кто собирается и где, в котором часу и с какой целью. Знала и полиция, естественно, но вот мер никаких не принимала, фактически кружки действовали легально; всем, и полиции в том числе, было совершенно наплевать, что дико нарушается закон.
А Колька, начиная с зимы 1916 года, все активнее ходил в нелегальный марксистский кружок. И чем хуже шли его дела в училище, и чем чаще он стоял в углу, тем активнее Колька занимался политикой. Ах, как ему нравился марксизм! То есть читать Маркса, Энгельса, Каутского и Ленина ему не нравилось… А вот обсуждать сочинения классиков и гениев — это очень даже нравилось! Парадокс в том, что чтение это очень уж напоминало учение в училище и даже в чем-то злополучный немецкий язык, а вот обсуждение уж точно ни к чему не обязывало. К тому же, чем более злобно обсуждал произведение Колька, тем получалось лучше, и тем серьезнее принимали его взрослые члены кружка. Колька скоро приноровился — брал книги вроде бы почитать, но читал лишь тот минимум, чтобы потом лучше обсуждать. Нравился ему и хозяин дома, руководитель кружка: Яша Вейнгартен, часовщик и большой теоретик, строитель будущего общества с двумя классами гимназии; сочувственный человек и понимающий.
— А при социализме… При ем никаких гимназий не будет? Вообще? — спрашивал Колька с замиранием сердца, очень боясь ответа, что при социализме не будет этих гимназий, так будут какие-то другие… Но Яша отвечал все правильно:
— Сколько раз тебе говорить… Учиться — буржуйство это сплошное, не надо никому и ни на хрен. А гимназия — это погибель пролетариата, сплошное вырождение великих идей и мелкобуржуазное загнивание.
И Вейнгартен доходчиво рассказывал, как в Могилевской гимназии его ловили контрреволюционные элементы на попытках экспроприировать часть их денежных средств: ведь эти средства были у них явно избыточными, ненужными и были похищены у трудового народа если не самими гимназистами, то их папами. А эти дикари, представьте себе, ловили Вейнгартена и били его, несчастного страдальца за интересы борющегося пролетариата!