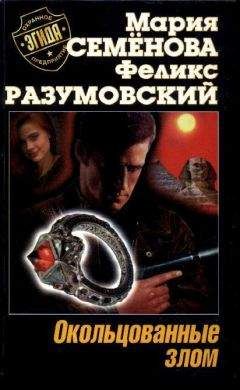Наконец невредимый Хованский рухнул в высокую полынь, затаился, — нехай думают, что попали. Совсем рядом пули со свистом срезали верхушки репейников, высекали рытвины в степной целине, но Семен Ильич знал, что судьбой уготованные девять граммов прилетают беззвучно. Не шевелясь, он дождался, пока стрельба затихла и со стороны вагонов вновь раздался громкий русский мат, — видимо, пожаловал атаман.
Степь между тем окончательно окунулась в непроглядную темень — на небе ни луны, ни звезд. «На руку, — хрен искать станут». Перевернувшись на спину, Семен Ильич закрыл глаза, на душе скребли кошки, мыслей не было. Действительно, искать его не стали. Пустив в расход «благородных», жидов и комиссаров, бандиты взорвали железнодорожный путь, погрузились в тачанки и под лихое гиканье да звон колокольцев растворились во тьме.
Скоро подул свежий ветер, лежать стало холодно. Штабс-капитан осторожно поднялся и, чутко вслушиваясь в ночные шорохи, беззвучно двинулся вперед. На фронте он приобрел безошибочное чувство пространства, оно и сейчас его не подвело, — вскоре он очутился в сухой, защищенной от ветра балке.
Да, настали времена… Хованский, горько усмехнувшись, принялся сворачивать из скверной махры козью ногу. Он, потомок знатного рода, награжденный за доблесть золотым оружием, сидит в яме, затаившись, как обложенный зверь. А серое пьяное быдло, коему сапожищем бы в рыло, уже вовсю разгулялось в бедной, Богом проклятой России.
«За что караешь, Господи?» Хованский зябко повел плечом, сплюнул и принялся добывать огонь, осторожно щелкая дрянной, сделанной из патрона зажигалкой.
Несмотря на благородное происхождение, хорошего в жизни он видел немного. Отец его, граф Илья Хованский, разорившийся вследствие пагубного пристрастия к картам и женщинам, однажды спьяну повесился, а сыну оставил лишь долги да наказ поступать в кадетский корпус.
На германской Семен Ильич дрался лихо, заслужил Георгия четвертой степени, однако потом что-то перевернулось в душе его. Не приняла она ни безропотного бессилия государева, ни шельмоватого мужика, помыкавшего царицей. Россия виделась ему залитым кровью лобным местом, где повсюду высились плахи с топорами и слеталось воронье на поживу.
Революцию семнадцатого года он встретил с пониманием: неделю беспробудно пил горькую, а затем вместе с бывшим своим командиром полковником Погуляевым-Дементьевым занялся «самочинами». Было их поначалу человек десять, в прошлом боевых офицеров, коих по первости уркачи окрестили презрительно «бывшими». Но вскоре все переменилось, пошел фарт, они забурели.
Прикрываясь липовыми мандатами, «бывшие» в штурмовых кожаных куртках а-ля ЧК производили самочинные обыски. Вламывались в богатые квартиры, брали что приглянется, при малейшем сопротивлении хозяев расстреливали — благо фронтовая закалка имелась. Однако разок погорячились, вручили потерпевшим предписание о явке за изъятыми ценностями на Гороховую. Чекисты от подобной наглости неделю кипятком ссали, потом все же опасных конкурентов устранили. Устроили подставу с засадой и в упор расстреляли из маузеров почти всех «бывших». Ушел только Хованский, унося по давней фронтовой традиции на своих плечах смертельно раненного командира.
После того авторитет его вырос, приклеилась кликуха Граф, и сам фартовый питерский мокрушник Иван Белов — Ванька Белка — почтил его вниманием, допустив в свою кучерявую хевру. Недолго, правда, урковал с ним Семен Ильич — уж больно неизящно вела себя блатная сволочь. Тупое, серое не поротое мужичье! К тому же Хованский окончательно понял, что прежней жизни в России больше не будет. Эх, обидно, да ведь свет на ней клином не сошелся. И потому вышиб он в одиночку из денег меховщика на Казанской, справил себе чистую бирку, и понесла его нелегкая в столицу.
А тем временем на молодую республику навалились Врангель, Деникин и Юденич, Антанта начала высаживать десанты на Мурмане да в Архангельске. Почти все были уверены, что большевикам скоро хана. Однако краснопузые оказались хитры и изворотливы, как тысяча чертей. Они не знали моральных ограничений, не боялись крови, а главке _ проникли в самую суть загадочной русской души, — халява, братцы! По щучьему велению, по моему хотению… Грабь награбленное! Экспроприируй экспроприаторов! Большевики никому ни в чем не отказывали. Обещали всем и все. Крестьянам землю, рабочим фабрики, измученным войной народам мир. Разве ж кто устоит…
В Москве было нехорошо. В воздухе ощущались электрические разряды надвигающегося красного террора, декреты нового правительства все крепче и крепче затягивали гайки, и штабс-капитан в первопрестольной не задержался. Более того, после неудачной попытки взять на гоп-стоп жирного бобра, когда пришлось стрелять и было много трупов, а потерпевший на деле оказался красноперым из бурых, пришлось рвать когти срочно. Так что прощальный поцелуй столице империи Хованский посылал с крыши товарного вагона.
И полетели навстречу станции и полустанки, железнодорожные переезды с неподвижными составами на запасных путях, заброшенные села, опустевшие поля, покосившиеся кресты на погостах… Повсюду голод, разруха, смерть. И показалась Россия Хованскому забитой издыхающей клячей, которую подняли на дыбы и гонят неизвестно куда.
Наконец Семен Ильич прибыл в Харьков и будто вернулся в старые довоенные времена. Из городского сада доносились звуки духового оркестра; с гиканьем проносились на лихачах потомки древних украинских родов — все поголовно в червонных папахах; одетые в синий шевиот военные маклеры важно курили гаванские «Болеваро»; и лишь присутствие на улицах немецких солдат со стальными шлемами на головах наводило на мысль, что все это великолепие ненадолго.
В сумерки, когда озарились ртутным светом двери кабаре, штабс-капитан отправился в парк, на берег неторопливой Нетечи. В маленькой беседке у центральной аллеи он наткнулся на какого-то знатного отпрыска, тискавшего в полутьме покладистую барышню, и приласкал его рукоятью шпалера. Взял лопатник, золотишка кой-какого, а дивчину, чтоб не убивалась о потерянном вечере, отодрал, закинув подол на голову.
Утром Семен Ильич въехал в гостиницу «Националь» и весь день пил шампанское. Однако на сердце по-прежнему было гадостно: призрачное спокойствие вокруг, ненадежное, на ниточке все, скоро оборвут. Так и вышло.
Вскоре с престола свергли Вильгельма, немцы оставили Украину, и полчища большевиков поперли на Харьков. Снова штабс-капитану пришлось уносить ноги от восставшего немытого хама, и вот на тебе — нигде спасу нет!