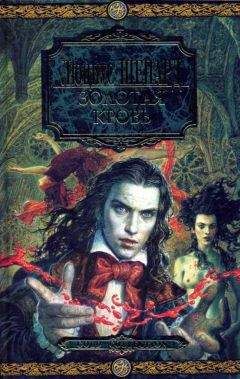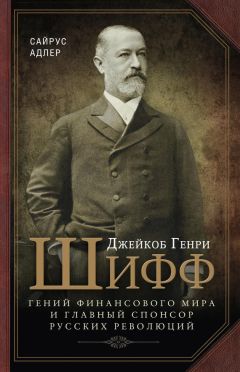– Это невозможно. Да если бы я и был способен сделать это, мне удалось бы лишь отсрочить неизбежное.
– Верни ее, черт тебя побери! – закричал Бехайм.
– Да не обезумел ли ты? – Патриарх поднялся на ноги. – Держи себя в руках. Это неприлично. В высшей степени.
Но Бехайм потерял власть над собой. Он рванулся вперед, надеясь – сверх всякого вероятия, – что сможет выхватить Жизель из пространства пустоты, но, не успев коснуться ее, от удара в затылок оказался на четвереньках, а в глазах у него все побелело.
– Совершенно очевидно, – сказал Патриарх, – что ты извлечешь из нашего разговора гораздо больше пользы, если не будешь ни на что отвлекаться.
Подняв голову, Бехайм едва успел заметить, как Жизель устремилась в пустоту, быстро превратившись в белую точку, и как если бы тьма была куском ткани за ее спиной и в движении потянулась за ней, словно в черный материал ткнули руку и он перчаткой собрался вокруг, так и это пространство, казалось, тоже стало уменьшаться и вскоре сжалось в пятно с рваными краями размером не больше окна, потом – в неправильный кружок диаметром с отверстие водосточной трубы, затем – в крапинку и наконец исчезло, оставив вместо себя плитняк пола и серые зубчатые стены двора.
Патриарх схватил Бехайма за шиворот и легко, как котенка, поднял над полом.
– У тебя просто отняли игрушку, любимую собачку – вот ты и дуешься. – Он приподнял его еще, так что ноги Бехайма теперь болтались в воздухе, и вздернул ему голову, чтобы смотреть прямо в глаза. – Ты ведь ее не любишь. Если б любил, то радовался бы вовсю, ликовал, что она вскоре станет одной из нас. Бессмертной, полной сил – да она о таком и мечтать не могла. Если бы все случилось иначе, может быть, после того как она прошла бы посвящение, между вами и возникли бы нежные отношения. Но то, что ты принимаешь за свои чувства к той, кем она была, – это чистой воды самообман. Ты что, обратно в смертные захотел? С их слезливостью и детской моралью? И думать об этом забудь. Ты теперь вот какой.
Красивое, бледное, широкоскулое лицо Патриарха вдруг стало вытягиваться, черты его расплылись, в спокойных и умных темных глазах загорелись красные огни, а волнистые черные волосы превратились в заросли ежевики, окружившие, но еще не успевшие целиком покрыть уродливую мраморную голову. Даже когда метаморфоза прекратилась и лицо вновь обрело свой байронический вид, Бехайму все еще виделось под ним это близкое к распаду существо. Он вспомнил, как собирался обмануть Патриарха, чтобы добиться от него поддержки. Каким же глупцом он тогда был! Его так ослепила новизна его собственной силы и озарения, что он не мог представить себе силы более мощной.
– Душа твоя теперь черным-черна, – сообщил Патриарх, отпустив Бехайма, который повалился на каменный пол. – Она окрасилась в цвет смерти, в которой ты был заново рожден. В цвет могильной земли и кошмара. Ты знаешь, что это так, чувствуешь это, но все сопротивляешься, а потому и не понимаешь, что это для тебя значит. Ты видишь в этом зло, но ведь ты не способен проникнуть в смысл этого слова. Твое представление о нем столь же ошибочно, как у христиан. Будто это ужасное, бессовестное разрушение порядка всех вещей. В общем-то, так оно и есть. Но ты упускаешь из виду те глубины, что лежат в основе этого понятия, логику, старое доброе деревенское чувство зла. Так слушай же меня и набирайся мудрости.
Он отошел на несколько шагов и принял театральную позу: повернулся к Бехайму спиной, сцепив за ней руки и устремив взор в звездное небо.
– Порядок – это иллюзия, дитя мое. Во всяком случае, в общеизвестном значении этого слова. Это признает как философия зла, так и философия добра, правда, очень по-разному. Приверженцы добра считают себя и себе подобных несовершенными по своей природе; они стремятся навязать своей жизни порядок, обуздать естественные порывы, создать видимость порядка с помощью самоограничения и бессмысленной набожности. И к чему же привели их усилия? К войнам, голоду, пыткам, грязному насилию, массовому смертоубийству и лишению свободы.
На миг плиты пола растаяли, слились в серую гладь и стали похожи на море хмурым утром. Усохли и посерели папоротники. Стены двора расплылись. Потом все вернулось на свои места. Как будто, подумал Бехайм, Патриарх под тягостным влиянием своих соображений по поводу добра на секунду засомневался в прочности своего мировоззрения.
– Мы же, предпочитающие зло, – сказал Патриарх, – открыто признаемся, что мы – создания природы, и стремимся лишь выразить свою суть. Мы кормимся, когда нам это нужно, даем выход гневу и похоти, всей палитре чувств, и не корим себя за это, не насилуем свои основные порывы. Мы себе ни в чем не отказываем и принимаем всю правду о себе. Что же мы имеем в итоге? Некоторые погибают от наших рук, кое-кому даруется бессмертие. Да, нам иногда приходится переживать неприятные физические и психические состояния, но чем они хуже рака, старческой немощи и слабоумия, которым подвержены смертные? Время от времени мы предаемся излишествам – но христиане и тут нас обходят по размаху и быстроте действия. Мы с ними не воюем. Да, мы пьем их кровь. Но ведь это естественно – регулировать численность поголовья. Это они хотят развязать с нами войну, они пытаются нас уничтожить. Таковы их методы. Умеренность им не знакома.
Он обернулся к Бехайму.
– В основе обоих этих взглядов лежит одно и то же стремление к миру, одна и та же мечта о полной безмятежности. С одной стороны, она представляется незапятнанным белым сиянием, с другой – непроглядной тьмой. Но серьезных различий между этими двумя кажущимися полюсами немного. В сущности, вся разница между ними заключается в способе достижения мира. Наш способ, называемый злом, – пользоваться полной индивидуальной свободой и силой, решительная анархия, сдерживаемая лишь самыми условными ограничениями, и это самый гуманный путь, причиняющий наименьшую боль. С нами спорят: мол, это все так лишь потому, что нас не так много, как сторонников добра. На такие доводы я всегда отвечаю: нас никогда не будет столько же, сколько сейчас их, потому что мы не раздуваем свои ряды, мы отсеиваем слабых и наказываем тех, кто злоупотребляет властью. Так где же настоящее добро? Ответь мне. А где зло?
На веселом пути выбравших тьму, где пестуют свои желания и стараются обойтись без боли? Или на тропе бескорыстных войн и разрушений под благочестивое пение псалмов? Патриарх подошел к Бехайму.
– Секрет нашего преимущества, дитя мое, в том, что всем нам ни до чего и ни до кого нет дела. Нам все равно. И тебе, и Александре, и Агенору – любому из нашей Семьи. Ну да, иногда мы можем кем-то увлечься, и тогда, верно, мы любим своего избранника, и всем известно – это приятно, это наслаждение. Но это совсем не любовь в христианском смысле. Это игра, обман, одежды, под которыми мы прячем похоть и себялюбие. Главное – что нам наплевать на других, мы почти полностью поглощены собой, это-то и делает нас менее опасными и в конечном счете позволяет нам сострадать по-настоящему, а не так, как наши враги. Их испортила, свела с ума ханжеская погоня за фантомами: благородством, любовью к ближнему. По сравнению с их склонностью к резне во имя спасения наше безумие – целительное развлечение.