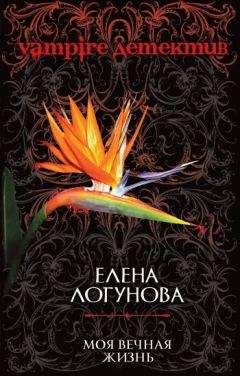– Прости меня, – прошептал Алекс.
Его слова не имели никакого значения. Я не понимала их смысла и вовсе не нуждалась в этом понимании. Все, что мне было нужно, было со мной и во мне. Но знакомый голос настойчиво просил меня открыть глаза и повторял:
– Смотри на него, Анна! Смотри прямо на него!
Подчиняясь, я разлепила ресницы и увидела свет.
Сначала он был маленьким тусклым огоньком, но быстро набирал силу и вскоре превратился в переливающееся сине-золотое сияние, закрыв от меня лицо мужчины.
– Смотри на него!
Я смотрела и умирала от восторга.
Это сияние было не просто красивым – завораживающим!
Как переливы цвета в языках пламени, танцующего на обугленных поленьях.
Как свивающиеся змейки струй стремительного горного ручья.
Как призрачное мерцание раскаленного воздуха над мертвыми песками пустыни.
А потом я потянулась, чтобы прикоснуться к этому чуду, и увидела свою руку. Она была темной, иссохшей, с искривленными артритом пальцами, в узлах голубых вен и коричневых пятнах!
Я хотела закричать, но от ужаса онемела и только беззвучно глотала воздух, задыхаясь и теряя сознание.
Долгим крепким поцелуем Алекс выпил мой немой крик, и я умерла.
Говорят, что в момент смерти человек вспоминает всю свою жизнь. Это правда!
Я падала в свои воспоминания, как в колодец.
Вся моя жизнь стояла в нем, точно темная вода, и я тонула в ней, погружаясь все глубже, уходя на дно, куда слой за слоем легли мои воспоминания. Сквозь них, через дни и годы, я падала, падала, падала… И белые камни колодезных стен рябили, точно клеточки быстро перелистываемой школьной тетрадки.
Все, что имело для меня ценность, все, что хранилось в памяти, промелькнуло перед глазами в обратной последовательности и исчезло. Я опустилась на самое дно колодца и… провалилась еще ниже!
Пленка продолжала крутиться назад.
Розовый свет забрезжил в темноте, покраснел, разлился широко и снова собрался в тугой клубок.
Алое солнце, теряя цвет и уменьшаясь в размере, поднялось над морем и бесследно растаяло в слепящей голубизне.
Небо, море, далекий берег – все было лазурным, но и красное на картинке осталось. Алой была моя шелковая блузка, красным в черный горошек – платок, которым я завязала волосы, чтобы их не растрепал морской ветер. Он дул мне в лицо, вынуждая щуриться. Из-за этого у меня были смешные узкие глаза. Их чертовски хотелось поцеловать!
Я смотрела на себя со стороны – чужими глазами. Смотрела и видела, что одна бровь у меня выгнута чуточку круче другой, а глаза разного цвета – один просто светло-карий, а другой светло-карий в крапинку. Что из-за родинки в углу рта улыбка немного несимметрична. Что брызги воды слегка размазали тушь на ресницах, а нос обгорел на солнце и уже блестит. Что на блузке расстегнулась пуговка, открыв кружевную кромку бюстгальтера. Что сережка в ухе качается – вот-вот упадет. Что платок не защитил волосы от ветра, и длинные пряди развернулись и растянулись, как линии нотного стана.
Я смотрела – и с трудом узнавала себя в смешной, растрепанной, милой, соблазнительной женщине. Тысячу раз я смотрелась в зеркало и еще в юности досконально изучила все недостатки своей внешности. Сотни раз, уже повзрослев, я внушала себе, что глупо и вредно смотреть на себя гораздо более критично, чем на других, и повышала свою самооценку, старательно выискивая дефекты внешности у красоток с журнальных обложек. Со временем я научилась любить себя такой, какая есть.
Но любоваться собой я так и не научилась! И такой взгляд на меня – влюбленный, растроганный – был мне внове.
Теперь я видела себя со стороны – глазами мужчины. Я понимала, что вижу редкое создание, настоящее чудо. Я твердо знала, что женщина, которой восхищаюсь, украшает собой этот мир и не должна оставить его раньше времени. Я произнесла это вслух, и она нахмурилась, потому что за шумом волн и двигателя катера не расслышала моих слов…
Что же он сказал мне – «лети»? «Плыви»?
«Живи».
В ту ночь, когда погас его последний закат, в ту незабываемую ночь в старой крепости на самом краю Залива Ангелов Даниэль велел мне жить, и я не могла его ослушаться.
Черная вода забурлила, кубики кирпичей на стенах колодца растушевались – я вынырнула!
Да, вынырнула, но осталась слепой, глухой и по-прежнему не могла дышать. Что-то давило на меня! Я еще рванулась и сбросила с себя тяжесть. С хрипом втянула воздух, услышала нарастающий звон в ушах – и на долгом облегченном выдохе снова потеряла сознание.
Руке было больно. Ладонь пекло, словно я держала в кулаке горячую, только что из костра, картофелину. Боль привела меня в чувство. Я открыла глаза, поднесла к ним руку, разжала кулак и едва не ослепла вновь.
На шнурке, опутавшем мои тонкие розовые пальцы, раскачивалось маленькое сине-золотое солнце совершенно нехарактерной для светила формы: продолговатое, с заостренными концами, похожее на игрушечное веретено.
Фонарь закатился в угол, луч его уперся в стену, и она образовала более светлый фон для неподвижной темной фигуры. Я не стала разглядывать. Стараясь не смотреть по сторонам, собрала все свои вещи в охапку, спустилась по лестнице и вышла из дома.
Вода в ручье была очень холодной, но я без единого звука погрузилась в глубокую заводь у навеки застопоренного мельничного колеса.
Мне не было холодно и не было страшно. Вода только казалась темной, а на самом деле была прозрачной, как стекло. Погрузившись в нее с головой, я ясно видела над собой радужные хрустальные звезды. Они шевелились, как живые.
«Все поймешь – и звезды, и закат»…
Лунный камень Алекса не остыл даже после купанья в холодной воде. Связав оборванные тесемки, я повесила кулон себе на шею и чувствовала его неослабевающий жар. Он согревал меня, и я не мерзла, сидя обнаженной на большом валуне. Одеваться не хотелось. Было очень приятно видеть свое тело молодым и красивым.
Обсохнув, я оделась, позвонила Маркусу и ровным голосом без эмоций попросила его как можно скорее явиться на старую мельницу в дальней части курортного парка. Агент Хинкс, спасибо ему, не стал задавать мне лишних вопросов и не допустил к трубке Павла. Тот, я слышала, шумел вядом с Мариком, возмущаясь моим беответственным поведением.
Они оба прибыли минут через сорок. Я все так же сидела на камне, уже полностью одетая, только с мокрыми волосами. Павел с разбегу обнял меня, прижал мою голову к своей груди, и я промочила его рубашку. Обнаружив это, он решил, что я плачу, и даже рассердился, убедившись, что глаза у меня совершенно сухие:
– Твое спокойствие меня удивляет! – сам-то он изрядно переживал.