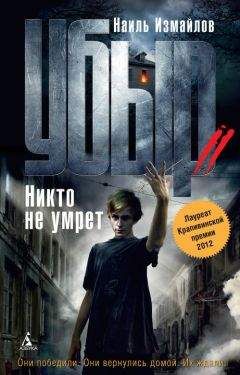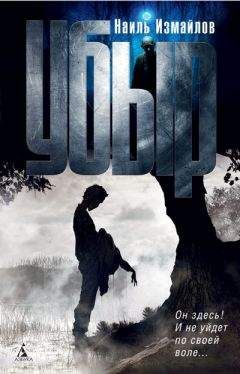— Анвар Насырович, вы не это… Не заметили, куда моя сестра…
— Не успел, к сожалению, — сказал Сырыч булькающим голосом.
А ведь ему врач нужен, подумал я. И директрисе нужен, и Катьке. И всей школе. Пусть не тотчас, а после процедур. Кто бы их сделал еще. Кто бы, кто. Типа выбор большой.
Как же я задолбался.
Я зарычал — не от боли, между прочим, а от бешенства — и встал. Удивительно быстро и почти ловко. И обломки указки подхватить успел. Подобрать не сумел бы. Мощная указка, почти не обуглилась. Надолго хватит.
Еще меня бы хватило.
— Наилёк, ты куда? — неуверенно спросила däw äni, тоже пытаясь встать.
— Däw äni, это вот Анвар Насырович, он у нас химию ведет. Ты посмотри, пожалуйста, он ушибся, помочь надо, — пробормотал я и продолжал бормотать что-то еще, а сам уже переминался с ноги на ногу, словно втискивался в затвердевший от долгой лежки костюм, рыскал головой, щурился и морщился, пристраивая охотничий взгляд к месту, где охотиться нельзя. Нельзя охотиться в городе, и нельзя охотиться в доме. Охота — на зверей, а зверям в доме делать нечего.
Тогда не охота, а уборка. Генеральная.
Знать бы еще, кто генерал.
— Наиль, ты никуда не пойдешь, — донеслось издалека, слабенько так.
Däw äni сместилась с края мира в центр, перекрыла его и заговорила про руку, здоровье, постельный режим и ее труп, через который она выпустит меня отсюда, ты понял, Наиль? А я почти и не понял. Каждое слово звучало страннее предыдущего, будто началась фраза по-русски, а потом через белорусский и польский ловко перескочила на какой-нибудь литовский или хинди.
— Däw äni, слушай ушами, головой и сердцем, — сказал я, удивляясь, что умею так говорить. — Враг забрал мою сестренку. Я Наиль, сын Рустама, сына Идриса, сына Исмагила, сына Хисаметдина, сына Фат куллы, сына Ярми, сына Габдекая, их наследник и потомок. Я их помню. Я буду жить так, чтобы моим потомкам не стыдно было помнить меня. Я приведу сестренку. Жди.
— Nindi doşmannar, onığım?[30] — спросила däw äni тихо, но теперь я слышал ее отчетливо.
— Yawız doşmannar, däw äni,[31] — ответил я.
Наклонился, поцеловал däw äni в смуглую соленую щеку и сообразил, что сильно выше ее. Пора доказывать, что рос не зря.
Правая рука почти не чувствовалась, зато и не болела. Я кивнул däw äni, которая не отрывала от меня мокрых глаз, бормоча «Bismillah», и пошел к двери.
— Sin qayçan tuğan teleñöyrenep belgän?[32] — успела спросить däw äni.
— Waqıtında,[33] — ответил я, махнул рукой, отсекая домашнее, и вышел.
В качественную, богато детализированную игру с супердвижком, текстурами, объемным звуком и всеми делами.
И это не я, а персонаж игры стремительно охватывал коридор коротким взглядом, вписывал в разные кусочки таблицы все важное и неважное — далекие голоса, хлопнувшую дверь внизу, уровень уходящего за подоконник солнца, несвежесть воздуха в глухих углах, прочность стендов на стенах и свежесть следов на линолеуме. Следы почти не читались, но мне — вернее, персонажу — хватало и прозрачных намеков: черточки от шаркнувшего торца подошвы, не успевшего расплыться сладкого запаха духов и обесцвеченного волоска, встрявшего между плинтусом и косяком ведущей к лестнице двери.
Дильку увела секретарша Луиза, вниз по лестнице, точнее, на первый этаж, и после по лестнице пробежали всего два, нет, три человека. Или не человека. Ладно, не до них.
На втором этаже закричали.
Я уже пролетел несколько ступеней вниз и остановился с большим трудом. С раздражением на грани бешенства. Мне некогда, не до вас, не орите.
Больше не орали.
Да и до того орали не особо. Ребенок с зажатым ртом перестает быть громким.
Двери, отделявшие лестничную площадку от коридора второго этажа, были мутно-коричневыми, с волнистым, еле прозрачным стеклом, и плохо закрепленными. Правая створка вздрогнула последний раз и замерла. Сквозь нее прошли минуту назад, не больше. Те самые три человека — два побольше, один поменьше.
А Дилька ушла вниз полчаса назад. За полчаса можно сделать очень многое. Особенно с ребенком.
Я не знаю, что выбрал бы. Персонаж выбрал за меня. Он развернулся и быстро пошел наверх и вправо, на ходу перехватывая обломки указки — даже больной правой рукой.
Коридор был пустым и гулким, и ничего в нем не звучало, кроме дробного эха моих шагов — ну, будем считать, что моих. Но я и без всяких звуков знал, и тем более знал тот, кто был в игровом мониторе, по горькому запаху и дрожи под челюстью: четвертая дверь, кабинет химии.
Кабинет был пуст. Я смутился, а чувак в мониторе, не сократив шага, влетел в лаборантскую. Там, как всегда, было узко, пасмурно и пестро от пыльных бликов на стеллажах. Цветы в горшках, расставленные между стоек с пробирками, топырили жирные листья. У самого окна боком ко мне застыли Ильмирка и Наташка, неаккуратно растягивавшие, как куртку после стирки, младшеклассницу в школьной форме.
Сердце у меня вмазалось в ребра так, что дыхание зашлось. Это была Дилька.
Она безвольно висела спиной ко мне, но я узнал — по прическе и кроссовкам. Узнал и заорал, запрокидываясь и теряя цели из виду. Но это я. А чувак в мониторе, так и не остановившись, набежал и повалил всю троицу как плохо вкопанные качели — и молча принялся орудовать коленями и кусками указки.
Надо было отвернуться или зажмуриться — но это могло отвлечь или сбить с темпа. Да и не хотелось отворачиваться. Зрелище зачаровывало, как работа внутренностей мудреного механизма, четкая и подбиваемая с самых неожиданных сторон. Кроссовку долой, носок, некогда, фиг с ним, сквозь него, в пятку, второе острие к макушке, не успеваю, прижать коленом, вторая, туфлю прочь, первая успела ударить, дышу, сильно в ответ, еще, к макушке — успел, вспыхнуло, на первую — опять ударила, зацепил стеллажи, все полетело на пол, звон, грохот, локтем, держу, еще раз в пятку — и к макушке, держать, держать!
Наташка выгнулась, с хрустом и хрипом вставая на мостик, мелко затряслась и осела на Ильмирку, чуть не подвернув себе голову под лопатки. Я тяжело плюхнулся рядом, зацепив локтем стеллаж — колба стукнула по башке, отскочила и с чпоканьем разлетелась в брызги. Куски указки щелкнули об пол — кулаков я так и не разжал, просто руки затряслись и опали. Правая тряслась посильней и ныла почти вслух, но в пределах терпимого.
Я смотрел на Дильку и собирался с силами. Дилька боком неудобно скорчилась в стоявшем под окном коричневом кресле. Она не шевелилась.