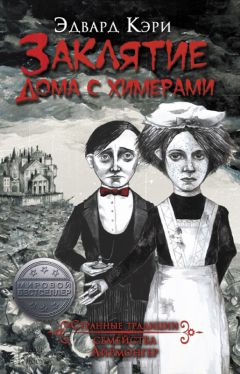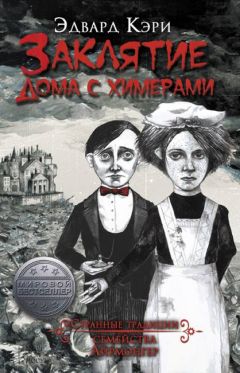Именно своей жене, желая потешить ее, дедушка даровал право выбирать предметы рождения для всех членов семьи. И как она его за это отблагодарила? Она лишь жаловалась на то, как это ее изматывает, как она от этого устает и что это сведет ее в могилу. Но правда была в том, что ей это нравилось. Ее жизненное пространство было ограниченным, и ей нравилось управлять жизнями других — всех, кто жил в Айрмонгер-парке от мала до велика. Так что именно моя бабушка вручала расчески и затычки для ванн, свистки и спичечные коробки (о моя дорогая Люси!), рюмки для яиц и упоры для дверей. С уверенностью можно было сказать, что с тех самых пор, как бабушка взялась за дело, она стала раздавать направо и налево самые обычные предметы, всякую дребедень. Она называла членов своей семьи посредственностями, ее никто никогда не впечатлял, и она никогда не проявляла снисхождения. К примеру, она сломала жизнь бедного дядюшки Поттрика, сделав его предметом рождения веревочную петлю. И не чувствовала ни капли сожаления, ведь она сама была навечно заперта в единственной комнате. Можно ли представить себе большие страдания? Ходили слухи, что когда бабушка была моложе, она приходила из-за своего заключения в такую ярость, что могла вышвыривать из окон предметы огромной ценности. Она могла расколотить хрустальное зеркало, часы своей бабушки или алебастровый бюст. Единственным постоянным в этой комнате была мраморная каминная полка. Все остальное пребывало в состоянии постоянного изменения. Однажды, проснувшись в штормовом настроении, бабушка открыла окно и выбросила из него свою личную служанку, верно служившую ей много лет, после чего от горя царапала половицы до тех пор, пока ее ногти не потрескались и из-под них не пошла кровь. Все постоянно менялось, и лишь бабушка с каминной полкой всегда оставались прежними.
Мне казалось, что бабушка давно находилась в состоянии войны со своей полкой. Та всегда была молодой и красивой. Еще ребенком бабушка смотрела на этот огромный предмет, играла рядом с ним, одевалась, как девушки, бывшие его частью, и, поднимаясь по лестнице, ставила предметы на саму полку. Потом бабушка выросла и вышла замуж за дедушку. Дедушка стал ее посещать. Думаю, она очень завидовала своим кариатидам. Их пышнотелость была для нее подобна насмешке, ведь бабушка всегда была худой, плоскогрудой и костлявой. С каждым днем бабушка слабела и съеживалась, горбилась и теряла зубы; ее стареющее тело ныло то тут то там. А мраморные девушки оставались все такими же большими, сильными и округлыми. Бывало, бабушка на несколько месяцев завешивала каминную полку покрывалом. Однажды она приказала почти на год заложить ее кирпичами. Позже она царапала и била свой Предмет, откалывала от него кусочки. Она брала молоток и зубило и добавляла своим практически обнаженным девушкам морщин. И все же, несмотря на все это, я думаю, она их любила. Любила потому, что эта огромная мраморная штуковина, в отличие от наших ножных насосов, грелок, складных линеек, леек и скамеек для ног, была предметом невероятной красоты.
Я не посещал бабушку несколько сезонов. Когда я приходил к ней в последний раз, она поговорила со мной очень коротко, назвав меня ужасным разочарованием. Она обвиняла в этом моего отца, говоря, что он ни на что не был годен, что он стал для моей матери ужасной ошибкой. Она даже сказала, что это он убил мою мать, что если бы не отец, то мать до сих пор была бы жива. Она говорила, что была совершенно права, вручив ему мочалку для классной доски, чтобы он мог сам себя стереть. Рыдая, она сказала мне, что видит в моем лице черты матери, но при этом оно — лишь бледная тень лица той, его плохая копия, его жалкая имитация. После этого бабушка меня отослала, сказав, что больше никогда не хочет видеть, потому что я — ужасное напоминание о происшедшем. Она сказала, что было бы лучше, если бы она вообще забыла о том, что моя мать когда-то родилась на свет, потому что мысль о ее потере была невыносима.
Я не должен был посещать бабушку и приближаться к тому крылу, где она обитала. Дело было исключительно в бабушке, я был тут ни при чем. С другой стороны, ей нравилось, когда к ней приходили Муркус и Хоррит. Они были ее частыми гостями. Она дарила им много подарков и называла их красивыми. Она носилась с ними как с писаной торбой, называя их будущим семьи Айрмонгеров. Муркус очень любил рассказывать, что однажды бабушка сказала Хоррит, что та будет выбирать предметы рождения после нее, добавив, что она великолепно справится с этой обязанностью. Если это было неизбежным, оставалось лишь надеяться, что это произойдет как можно позже.
Но вот я вновь стоял там. Перед бабушкиной дверью и в брюках. Я постучал, но звук был настолько слабым, что, боюсь, она его не услышала. Я немного постоял снаружи. Покончи с этим, подумал я, и тогда ты сможешь отправиться в гостиную и увидеться там с Люси Пеннант. Ответа по-прежнему не было. Я постучал снова, на этот раз громче.
— Кто там? — послышался нетерпеливый голос бабушки.
— Это Клод, бабушка. Твой внук Клодиус, сын Айрис.
— Вытри ноги.
— Да, бабушка.
— Теперь входи.
— Да, бабушка.
Бабушкины ступеньки
Со времени моего последнего визита комната сильно изменилась. На окнах висели новые занавески, а на стенах — новые картины. Ее кровать была другой, ванна, похоже, тоже — к ней вели ступеньки. Бабушка сидела в кресле с высокой спинкой и казалась очень маленькой. Она была одета в черное, и на ногах у нее были толстые черные ботинки, которые выглядели очень поношенными. В этом не было ничего необычного — она часто приказывала Айрмонгерам-слугам носить ее обувь, чтобы та путешествовала по миру, ведь сама бабушка не могла этого делать. Она носила замысловатую белую шляпку, которая делала ее на голову выше. На ней было не менее десяти нитей жемчуга. Некоторые из них были туго обмотаны вокруг ее морщинистой шеи, другие струились по коленям. Их вес тянул бабушку вниз, и я подумал, что это делает ее похожей на черепаху. Было слышно, как снаружи бушевала буря, но в комнате все еще играли последние отблески света. В окна колотила разная мелочь — галька, обрывки кожаных ремней, мелкие осколки фарфора, страницы газет. Но бабушка была совершенно безразличной ко всем этим хлопкам и звону, доносившемуся от ее окон.
— Привет, бабушка, как ты? — сказал я. — Я так рад снова тебя видеть!
— Подойди сюда, дитя, поцелуй меня.
Я шагнул вперед. Под ногами скрипели половицы. Я пересек комнату и подошел к ней почти вплотную, ощутив дыхание старости и сырости. Это был сладковатый запах плесени, запах, означавший, что моей бабушке оставалось жить на этом свете не так долго.