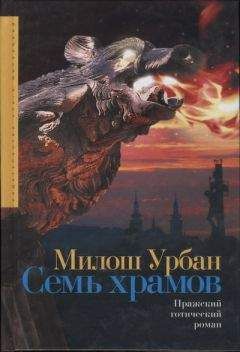— Неужели? В жизни не слышал ничего прекраснее! Пожалуйста, повтори еще раз.
— Я не шучу. Послушай, я не знаю, что ты обо мне навыдумывал, и мне это безразлично. Но не вмешивайся в мои дела: мне это навредить не может, а тебе — да. Тот мой образ, что ты себе нарисовал, скорее всего фальшивый. Не стоит ни на что надеяться, все равно обманешься.
— Ни на что не надеяться? Ни на что? Это со мной уже было, и ничего страшнее мне испытать не довелось. Но, возможно, это ты вмешиваешься в мои дела. Ведь я о тебе ничего не знаю. Есть кое-какие странности, которые я не могу объяснить…
— И пускай. Речь не обо мне.
— А о ком?
— Ты же сам сказал, что ничего обо мне не знаешь. Так тому и быть. То, что ты мог бы узнать, тебе вряд ли понравилось бы. Я некрасивая. Я необразованная. Я неинтересная.
— Ты пришла, чтобы сообщить мне это? А если я не соглашусь с тобой, ты расценишь это как комплимент?
— Мне неприятно. Ты говоришь, как этот идиот Загир.
— Зачем ты ругаешься? Слушай, я вообще не понимаю, зачем мы здесь. Я думал, ты назначила мне свидание, хотя и не мог в это поверить. Я не знаю, кто ты, не знаю, чего от тебя ждать.
— По крайней мере, прости меня. Даже за то, что, возможно, и не произойдет… я надеюсь. Я не могу тебе ничего объяснить, во всяком случае — пока. Но если этому все же суждено случиться… я помешать не смогу. Оно не погубит тебя, если ты поплывешь по течению. А позже это просто войдет в привычку.
— Какое еще течение? Что войдет в привычку? — Я не знал, о чем она толкует, и ее манера изъясняться действовала мне на нервы. Хотя я и не рассчитывал услышать признание в любви, мне все же полегчало, когда я понял, что ничего подобного она говорить не собирается, но ее слова меня разозлили.
— Я тоже была в похожей ситуации. Я живу у него, но это не значит, что я у него на побегушках. Я ничего ему не должна, и он мне тоже. Я сама решу, как распорядиться своей жизнью. Пока мне удобнее так.
— Да я же ни в чем тебя не упрекаю, разве бы я посмел? Что мне до того, что…
— Вот именно, что ничего! — перебила она меня. Я-то собирался ей сказать, что она ошибается и что мне и в голову бы не пришло презирать ее за то, что она живет в апартаментах Гмюнда, но Розета не дала мне этой возможности. Ее следующий вопрос просто лишил меня дара речи:
— И давно ты за нами шпионишь?
— Шпионю?!
— Прунслик видел тебя возле церкви Екатерины, в парке, когда я была там с Матиашем.
— Значит, Прунслик! Это ничтожество! А ты не спросила его, чем он сам там занимался?
— Не вмешивайся, с ним я разберусь. И не ходи больше в мою ванную.
— Я пока плохо ориентируюсь в гостинице. Твою дверь я открыл случайно.
— Однако застрял рядом с ней надолго.
— Надолго? Возможно… Этот турецкий шатер над лоханью… и эта твоя железная штуковина…
— Тебе показалось странным, как я выгляжу?
— Меня точно одурманили. Все было… Все было так прекрасно…
— Оставь свои впечатления при себе. Я сама не знаю, что мне думать о Матиаше, может, я съеду от него прямо завтра.
— Почему? Что вас связывает?
— Этого я бы тебе не сказала, даже если бы знала. Если я выдержу, если ты проявишь себя должным образом, то сам все узнаешь.
— Проявлю? О чем это ты? И зачем это мне?
— Возможно, ты найдешь самого себя, неужели этого мало? Как нашла себя я. Хотя точно не знаю… Матиаш поможет тебе, как помог мне. Я была совсем плоха. А он вытащил меня… извлек…
— «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои». Псалом номер сорок, я его еще не забыл.
Она резко поднялась, одарила меня короткой, отчего-то полной приязни улыбкой и ушла. Напиток, куда она положила четыре пакетика сахару, так и остался непригубленным. Я глотнул из ее стакана. Как и следовало ожидать, грог оказался очень сладким. И все же он понравился мне больше, чем мой собственный. Я смаковал напиток, воскрешая в памяти слова Розеты и отыскивая в них тайный смысл. В тот день он мне так и не открылся.
Первую неделю декабря я провел в прекрасном расположении духа. Опять бродил по любимым уголкам города, и город заключал меня в объятия, открывая мне свои тайны и делясь секретами своей славной истории, едва лишь я ощущал желание погрузиться в них, чтобы отдохнуть. Воздух был прозрачен, стоял легкий морозец, опять выпал снежок, который пролежал дольше, чем первый. Он превратил обессилевшие от собственного гама улицы в тихие коридоры, ведущие в незнаемое, волшебным образом побелил углы домов, осветил протоки пассажей и вдохнул в город приветливость к его недостойным обитателям. Белые скатерти на крышах готических храмов и кровлях барочных зданий заставляли вспоминать о прочитанных в детстве книжках с картинками. Такая же перина накрывала Прагу и сто, и триста, и шестьсот, и Бог знает сколько лет назад. Жизнь под нею тянулась медленно, куда медленнее, чем летели по Праге сани.
Трупы двоих подростков так и не нашли. Омрачил те дни лишь телефонный звонок Загира. Архитектор поздравил меня с новосельем и сообщил, что не нуждается больше в моих услугах, потому что теперь его жизнь двадцать четыре часа в сутки охраняет полиция. Он попросил меня не огорчаться и предложил взглянуть на ситуацию с иной стороны: мол, когда я работал у него охранником, он боялся не столько за свою, сколько за мою жизнь, а сейчас дело зашло уже совсем далеко — он получил наконец свой булыжник… да, камень такой же, как все остальные, да, тоже зеленоватый, нет, ему ничего не разбили, булыжник он получил по почте как срочную бандероль.
И по почте же он получил кое-что еще: страх.
Я поведал ему новость — скоро я опять надену форму и, возможно, его поручат как раз мне. Даже по телефону было слышно, что это известие застало Загира врасплох; я знал, что он не считает меня хорошим полицейским — после того, как в прошлую нашу с ним встречу я потерялся. Он быстро проговорил, что к нему теперь приставлена Розета. Я промолчал, и тогда он спросил, что я об этом думаю. Но я продолжал молчать. В груди у меня кололо, как будто там заработала электрическая швейная машинка. Наконец я пожелал Загиру успешного сотрудничества с Розетой, гадая про себя, как именно этот хвастун сейчас выглядит: небось подмигивает повлажневшим глазом и непристойно усмехается. Эта картина меня совсем не обрадовала, однако тягостные мысли о Розете, изгибающейся в его объятиях, рассеялись, когда я представил, как отвиснет у него челюсть, едва лишь он наткнется под ее юбкой на железное нижнее белье. Я рассмеялся. Загир истолковал мою реакцию превратно и тут же принялся уверять, будто с самого начала понял, что Розета падка на мужчин бывалых и опытных. Желая сменить тему разговора, я спросил, есть ли у него новые основания — не считая предупреждения по почте — опасаться за свою жизнь больше, чем прежде. Он неохотно ответил, что чувствует за собой слежку — это, мол, и есть главная причина, по которой он предпочитает иметь дело с профессионалом. Я посоветовал обратиться к капитану Юнеку, хотя и помнил, что Загир однажды предостерегал меня от общения с этим человеком. Мы опять не поняли друг друга. Он решил, что я хочу лишить его Розеты. На прощание архитектор попросил передать привет рыцарю из Любека; титул этот он произнес с нескрываемой иронией, а первую часть названия города намеренно исказил, так что я явственно услышал немецкое слово Liebe — любовь. Неужели он догадывался о тайной связи этих двоих? И совсем уже под конец, перед тем как положить трубку, Загир решил поерничать: на Розете, мол, свет клином не сошелся, и мне не стоит прыгать с Нусельского моста, потому что он знает куда более романтичные места — Петршинскую башню, например. Я хотел было ему сказать, чтобы он полагался больше на себя, чем на полицию, но трубка уже оглохла. Оглохла, как архитектор Загир.