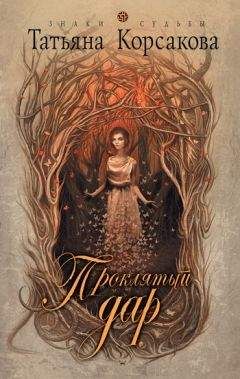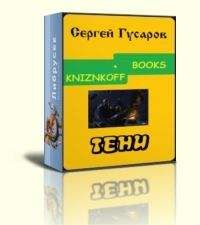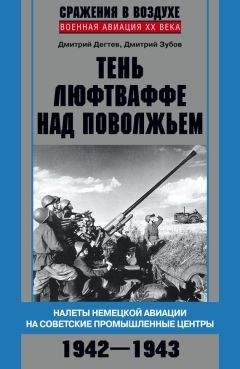– Поэтому их так много? – Она прикурила, не дожидаясь, пока Матвей проявит галантность.
– Думаю, да.
– Значит, никакого сумасшествия? – В ее синих глазах отразился огонек от зажженной сигареты, и всего на мгновение они вспыхнули инфернальным красным светом. Матвей даже поежился, но быстро взял себя в руки. Не хватало еще пугаться всяких оптических феноменов.
– А у тебя в родне точно никто колдовством не промышлял? Ну или там целительством? Ты же из таких глухих мест родом. Болота, топи… Там, наверное, всякое бывает?
– Ничего там не бывает! – отрезала Алена.
– А туманы? – не сдавался Матвей. – Туманы там точно необычные.
– И туманы обычные! – Она протестующе замотала головой. – Все там нормальное! И потом, я там почти не жила. Моего деда в сорок четвертом фашисты расстреляли, а бабушку Ганну в сорок шестом репрессировали. Я вообще в Сибири родилась, а в Беларусь мы переехали, когда мне было уже десять лет. Бабушка очень хотела на родину вернуться, повидаться со своим братом. Дед Тарас – он не родной мой дед, он бабушкин брат… – Алена вдруг замолчала. Позабытая сигарета просыпалась пеплом на обеденный стол.
– Что? – не выдержал долгого молчания Матвей.
– Бабушка тоже про туманы говорила. Про туманы и про Морочь.
– Морочь?! Это что еще такое?
– Я не знаю. Местные так топь называют. Но бабушка к ней относилась как к чему-то живому. Говорила, что Морочь ей всю жизнь изломала, про грех какой-то говорила, про искупление. За меня очень боялась, умоляла к Гадючьему болоту даже близко не подходить, особенно в туман. Она старенькая уже была, заговаривалась сильно, никто на ее слова особенного внимания не обращал.
Значит, не соврал Ставр, что-то там нечисто на болоте. И бабка эта Аленина, которая в грехах кается… Какие в те времена могли быть грехи? Мужа сочли врагом народа? Так в каждой второй семье такое горе было. И почему к болоту нельзя подходить? Эх, видать, неспроста у Алены крыша поехала. Морочь заморочила…
– Я тебе еще кое-что очень важное не рассказал, – решился Матвей. – Давай собирайся. Весточку с того света передадим, и в путь. В дороге поговорим. Буду тебя сказками развлекать, чтобы не уснула.
– Страшными сказками? – спросила она с невеселой улыбкой.
– Боюсь, что да, – сказал он очень серьезно, а потом после небольшой паузы спросил: – Алена, тебе имя Ставр знакомо?
Он смотрел очень внимательно, если бы она решила соврать, он бы заметил это непременно. Но в синих глазах не было ничего, кроме удивления.
– Значит, незнакомо, – вздохнул он. – Ну ничего, скоро познакомитесь…
Апрель пах березовым соком, расцвечивал Сивый лес первоцветом, звенел птичьими голосами. Идти было тяжело: мешал живот, разламывалась от боли поясница, но Ася терпела, медленно брела к краю Гадючьего болота. Наверное, скоро болото будут называть по-другому, потому что нет на нем больше гадюк, ушли вслед за бабкой Шептухой. Зато появились вороны, верные Асины спутники, ее глаза и уши. Теперь она каждый день выходила к меже между болотом и Сивым лесом, терпеливо и отчаянно ждала своего часа, караулила.
Ганну Ася заметила первой. За то время, что они не виделись, жена Захара постарела, посуровела, ее широкое некрасивое лицо прочертили морщины, в волосах появилась седина, а глаза сделались пустыми, точно неживыми. А может, и не изменилась она вовсе, может, это из-за того, что Ася все теперь видела иначе? Ася, наверное, так бы и не решилась ее окликнуть, так бы и ушла ни с чем, если бы не ворон.
Ганна обернулась на грозный птичий клекот, испуганно ахнула, прижала натруженные руки к груди.
– Ася?.. – Она притулилась к березе, точно опасаясь упасть. – Ты?!
– Не бойся. – Ася сделала осторожный шаг, ворон коротко каркнул и взмыл в небо. – Не уходи, поговорить нужно.
– Живая? – Ганна дышала часто и сипло, как загнанная лошадь. – Слава тебе, Господи, живая! – И тут же, не позволяя Асе опомниться, она рухнула на колени, прямо в холодную болотную жижу. – Виноватая я перед тобой, Аська. Камнем на душе этот грех ношу. Прости!
– Виновата? – Ася сделала еще один, самый последний шаг и замерла: дальше нельзя, дальше кончаются владения Морочи и ее собственные силы. Нельзя ей теперь из болота.
– Захара моего расстреляли. Знаешь? – Ганна всхлипнула, закрыла лицо руками. – Ночью забрали, ироды фашистские, и у сельсовета… расстреляли. А люди говорят – собаке собачья смерть! – Она вскинулась, погрозила кому-то невидимому кулаком. – Забыли! Как Любки Зосимовой девкам возраст уменьшил, чтоб их в Германию не угнали, как Шукайлихи внуку лекарства в городе доставал, как перед лиходеем Фишером на пузе ползал, чтобы деда Гайдука за ворованный овес не повесили. Как бегали каждый день со слезами и просьбами, а он всем помочь старался, никому не отказывал, забыли… Лучше бы меня. – Ганна убрала руки от лица, снизу вверх посмотрела на онемевшую Асю. – На мне грехов больше, чем на Захаре. Перед тобой грешна. Это ж я тогда на тебя донесла, не Захар! Думала, не станет тебя, и заживем мы как раньше, он меня снова любить будет. А он как узнал… он так на меня посмотрел. Пусть бы побил, пусть бы до смерти забил, я ж заслужила, а он не сказал ничего, только посмотрел так, что я после того жить не могу. И ты… говорили, ты на болоте сгинула.
– Не сгинула. – Ася заправила выбившиеся из-под платка отросшие уже волосы. – Живая я… наверное.
– Вижу, что не сгинула. Стало быть, одним грехом меньше. – Ганна тяжело встала с колен, сделала шаг навстречу, спросила дрогнувшим голосом: – Ребеночка ждешь?
– Жду. – Ася положила ладонь на живот.
– Девочка будет, по животу вижу. Счастливая ты.
Счастливая? Разве можно быть счастливой, зная, какая тварь зарится на твою кровиночку, зная, что вместе им не быть никогда?..
– А меня Бог за мои грехи наказал – нет у меня ребеночка.
Решение пришло нежданно-негаданно, Ганна теперь другая, перекроила ее жизнь, наказала, глаза открыла. Асе закрыла, а Ганне открыла.
– Возьмешь ее к себе, как родится? – Ася погладила себя по животу.
– Себе?! А сама что? Как можно?..
– Нельзя ей со мной. На болоте нельзя, понимаешь? Страшное тут место, гиблое.
– А со мной, думаешь, лучше будет? – Ганна не сводила взгляда с Асиного живота. – Думаешь, больше не предам?
– Знаю и вижу. – Ася провела пальцами по своим незрячим глазам. – Я многое сейчас вижу из того, что раньше не могла.