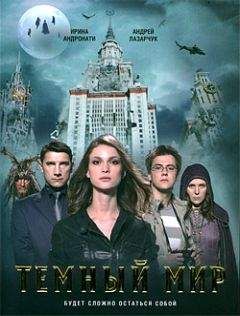Производит много пользы, но не нуждается в многочисленном обслуживающем персонале. Чем-то он напоминает мне знаете что? — вот эти зонды глубокого космоса, «Пионеры» и «Вояджеры», которые уже сорок лет работают там где-то сами по себе, не ломаясь, — а только созданные для хозяйственных нужд: утром кофеек сварить, пол подмести, дела с финансами поправить, коз выпасти, детей воспитать, собак накормить… И даже потом, разбитый на куски, он сохраняет свои как бы волшебные свойства… Вот что хотите делайте со мной, а я не нахожу более ясного и логичного объяснения этой легенде, чем… ну, я рассказывал вчера. Остатки, осколки древней технологии, которую одичавшие потомки пытаются использовать — и пытаются описать это своими словами.
— А при чем тут исчезновения? — спросила Патрик.
— Не знаю, — сказал Ладислав. — Кто, Лем или Альтшуллер, писал, что по-настоящему развитая технология неотличима от магии? То есть будет взаимодействовать с человеком непосредственно, без использования всяческих устройств? Собственно, поэтому я не верю во всякую там летающую посуду. Если цивилизация развилась до того, что ей по силам межзвездные перемещения, значит, космические корабли для нее — далекое славное прошлое.
— Стэплтон, — сказала Патрик. — Олаф Стэплтон. По-моему, он это и писал. Так все-таки при чем тут исчезновения?
— Предположим, эти «костяные руны» — своего рода голосовой пароль для пропуска… ну… в Похьйоллу. Или определитель «свой-чужой». И так далее. Напридумывать можно всякого…
И уже потом, прощаясь, Ладислав вдруг отвел меня чуть в сторону и сказал:
— Костя, я вижу, вы тут самый старший из них и самый здравомыслящий. Будьте осторожны. Лето какое-то очень тревожное. Вот в семьдесят седьмом так же было — не совсем здесь, поюжнее, вокруг Петрозаводска в основном. Тогда больше ста человек пропало…
— А что можно сделать?
— Ну хотя бы не ходите поодиночке. И ни в коем случае не заходите в густой туман. Даже если он по колено. Почаще пересчитывайтесь. Потому что бывает, что человек пропадает прямо из компании, и никто потом не может его вспомнить… Посчитайте, сколько вас есть, и почаще пересчитывайтесь. Пусть это будет такая игра…
«Десять негритят», хотел сказать я — и вовремя прикусил язык. И еще подумал: ну узнаем мы, что человек пропал, а толку? Разве нашли кого-то? Хотел спросить, но не стал.
Откуда он узнал, кстати, что я — самый старший? Выгляжу я ювенильно и субтильно. Разве что Рудольфыч из документов выудил и с другом поделился? Может быть.
Перед сном я вкратце надиктовал этот разговор — просто так, для поддержания самодисциплины. И вот — пригодилась запись. Патрик, например, вообще ничего не помнит, типа и Ладислава-то никакого не было. Так что…
Рано утром поели в той же понравившейся нам столовке и начали грузиться. Рудольфыч накануне договорился с военными, чтобы нам дали старенький кунг ГАЗ-66 — машину нереально суровую с точки зрения комфорта, но вполне годную для предстоящих дорог.
Что сказать про дальнейшее… По карте нам до цели было шестьдесят километров. Из них дороги, которую можно было считать дорогой, — километров пятнадцать. А все остальное — из колеи в колею… Но Рудольфыч, конечно, знал, что просить. «Шишига», ребята, это зверь.
Но, однако же, и помотало нас!.. Ладно, к черту неаппетитные подробности. Главное, что вскоре после полудня мы, кто еще стоял на ногах, вынесли из короба тех, кто на ногах уже не стоял. А потом разгрузили и все остальное.
Хутор, на котором нам предстояло провести весь июль, назывался Кутилла. Типа, ни в чем себе не отказывай…
Нет, место было исключительное, и даже в самую первую секунду, когда я мешком вывалился из двери, не попадая ногами на ступеньки, я просто-таки вдохнул эту красотищу.
Дорога заканчивалась круглой поляной — и по выбитым колеям видно было, что машины тут разворачиваются довольно часто. Одним своим краем поляна открывалась на озеро, синее-синее, с каменным островом неподалеку; от поляны к воде вел пологий укатанный песчаный спуск — наверное, для лодок. Спуск обрамляли старые, причудливо изогнутые сосны, смыкающиеся кронами вверху… Справа, за разросшимся красноталом, угадывалось какое-то прозрачное строение — как потом оказалось, просто крытая площадка. То ли рыбовяльня, то ли лодочный навес. А слева, шагах в ста, виднелся аккуратный заборчик…
Еще в семидесятых здесь был довольно крупный рыболовецкий то ли колхоз, то ли совхоз. Сейчас осталось семь жилых домов и девять человек населения, все пенсионеры. Они-то, конечно, и были нам нужны… но все равно становилось не по себе.
Рудольфыч сказал, что в радиусе сорока километров постоянного населения не наберется и ста человек. Рыбаки, охотники, лесорубы, пограничники не в счет…
Скоро останутся только они.
Ладно, не буду я о проблемах края. Хотя все это может быть и связано с дальнейшими событиями, не знаю… не хочу усложнять. Я и так благополучно запутаюсь.
Мы расселились «по бабушкам» — нам с Омаром и Джором в хозяева достался дед Терхо восьмидесяти лет, последний на хуторе финн. Остальные все давно уехали. Дед Терхо вовсе не был молчалив, как подобает настоящему финну, зато непьющ, а также любил и умел петь. К сожалению, пел он в основном финскую эстраду шестидесятых. Зато он знал наперечет всех живущих в пределах досягаемости, с ходу врубился в наши нужды, имел моторку… в общем, как бы мы обошлись без деда Терхо, не представляю. Другое дело, что мы мало чем успели воспользоваться…
Первые дни — это всегда раскачка. Опять же, установление неформальных контактов, втирание в доверие. То есть, с одной стороны, студентам и взрослым фольклористам да этнографам в таких местах всегда рады (развлечений здесь маловато, и заезжие клоуны в цене), а с другой — мы же хотим проникнуть во что-то, чего еще сами не знаем. Суметь спросить… А это требует постепенности.
Или умеренного сумасшествия.
(Не могу сосредоточиться. Кажется, я забыл что-то важное, что не перекрывается записями. Это нервирует и слишком отвлекает на себя, а на самом деле это может быть какой-то пустяк. Чтобы правильно спросить, нужна степенность, сдвинутость, частичное знание ответа и… что-то еще.)
В хуторе наличествует электричество — осталось с прежних времен. Дед Терхо — счастливый обладатель телевизора. На высокую антенну ловятся три финских канала, из них один музыкально-фольклорный…
Карельская культура вымирает, ребята. Мы вот что-то собираем, а толку? Даже языки карельские — их было когда-то два десятка, сейчас три или с натяжкой четыре, скоро сольются в один, а потом все. Культура-то на самом деле — это не ряженая самодеятельность, это понимание мира, общение с миром…
Мы тут как-то посчитали с Хайямом, и получается, что спасение — реальное, не показушное! — всех культур Русского Севера обойдется дешевле, чем полет одного космонавта или ремонт колоннады Большого театра. Ну и что? Посчитали. Теперь знаем. Все.
Никому это не надо.
В первый день я готовил ужин на всех, в том числе и на хозяев. Прикинул, что нужно побыстрее употребить из скоропортящегося, и сварил бешбармак. Пяток промороженных сухим льдом бройлеров приехали с нами в сумке-холодильнике; двух я использовал. Насчет пряностей постарался старина Хайям. Он утверждает, что хайям, он же хаома, — это особо забористый горный хмель, с которого древние арии и ловили свои божественные глюки. И сейчас в Горном Бадахшане его еще можно найти, если знать места. Но готовить любезный Омар ни черта не способен. Даже хлеб поджарить. Даже растворимый кофе. Своего рода талант. Зато знает много песен и анекдотов про Горный Бадахшан. Все они крайне неприличные. В отличие от стихов, которых он же, наш верный товарищ, может наговорить не одну антологию. Кажется, упоминал уже.
А бабушки напекли пирогов с морошкой и грибами, и общее братальное застолье получилось на славу. А трио фольклористов — Омар, Вика и Валя — как выдали: Ruskei eicoi, valgei neicoi, sano sina, sano sina, — так все и пустились в пляс. — Ruskei neicoi, valgei neicoi, sano sina, sano sina, kedabo heile rinnale, rinnale? Mustale piale Muarjua da Muarjua. Minun vellele Duarjua da Duarjua. Minun miiloile icceni, icceni!
(«Румяная девушка, белолицая девушка, такая красивая, куда же ты идешь совсем одна?..» — ну и так далее.)
И еще песню про Настю, я слов не помню, но это такая половинка истории Красной Шапочки, где три четверти песни — перечисление содержимого корзинки («…две печеные репы, два ячменных блина, три овсяных хлебца, сушеный лещ…»). Потом встречается ей Архип, берет узелок, кладет на бугорок… тут и песенке конец.
Потом еще что-то.
А потом меня уболтали на гитару, и я немножко спел, что под настроение легло — стараясь в основном для бабушек. «Белой акации гроздья душистые…», «Долго будет Карелия сниться…», «На ясный огонь…», «Черный кот».