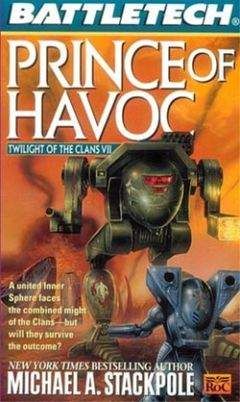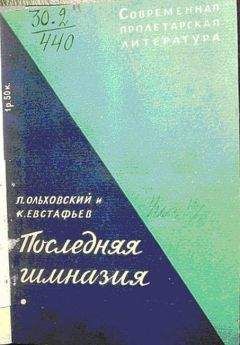Дверь подалась, приоткрылась. Незаперто. Он шагнул в полутьму сеней. Пес продолжал надрываться. Во внутреннюю, ведущую в дом дверь стучать не стал, сразу потянул за ручку — и здесь незаперто.
«Есть кто дома?» — крикнул он. Ответа не было. Эскулап шагнул в горницу. И сразу, с замершим сердцем, — к красному углу. Ждал самого гнусного — Евстолия росла и взрослела в годы расцвета воинствующего атеизма, и бабкины иконы могли легко отправиться в печку, или быть проданы за бесценок скупщикам, рыскающим по медвежьим углам Севера и Сибири…
Иконостас оказался на своем законном месте.
Эскулап остановился. Попытался успокоиться: нечему пока радоваться, нужной может и не быть, — ну внутри уже подрагивало, трепетало и звенело натянутой струной предвкушение успеха…
Зажигалка прыгала в пальцах, он никак не мог повернуть колесико, наконец бензиновый огонек затрепетал перед почерневшими, неразличимыми ликами… «"Зиппо" плюс „Шелл“ — вот вам и лампада атеиста», подумал Эскулап в радостном возбуждении, торопливо проводя рукой вдоль образов, и хотел раскатисто, как встарь, хохотнуть шутке, первой своей шутке за минувшие дни, — и не хохотнул. Нужной иконы не было.
НЕ БЫЛО.
Он медленно опустил зажигалку. Подумал, что надо найти и расспросить хозяйку, может, не нравится ей этот образ, может, держит на чердаке, в куче хлама… — подумал тускло, как-то по инерции, и понял — никого не будет искать и расспрашивать, и даже не пойдет под живописный кедр, а просто сожмет прямо здесь губами пистолетный ствол, как младенец сосок матери, и попробует узнать, есть ли что-нибудь там, за гранью…
Он прикусил губу — сильно, до крови — красная струйка зазмеилась по подбородку… Боль отрезвила, отогнала панику. Он заставил себя снова зажечь огонек, снова поднести к иконостасу. Всматривался в каждый образ самым внимательным образом. У третьей иконы лицо смутно изображенной фигуры даже не угадывалось — темное пятно неправильной формы. Но пятно было характерно вытянуто вбок. И слегка напоминало очертаниями морду зверя…
Он сорвал со стены тяжелую, странно толстую доску, поднес к окну… Надпись в верхней части рассмотреть даже на свету было невозможно. Эскулап послюнил палец, тер торопливо, результата не было — затем немного охолонул, полез в сумку, достал кусочек ваты, пузырек с перекисью…
Буквы выступали кусочками, фрагментами…
ОНА!
Св. Вонифатий…
Охваченный ликованием, он не услышал за спиной скрип досок. И обернулся только на женский крик, удивленный и негодующий.
Святого Вонифатия правильнее было бы называть св. Бонифацием — католики, собственно, так его и называют, но у сибирских староверов иностранное имя немного видоизменилось.
Святой это старинный, жил и проповедовал среди ликийцев еще в третьем веке, там же и тогда же пострадал за веру (по одной из версий — был затравлен собаками). Обычная для веков становления христианства история.
Необычным было происхождение Бонифация. Принадлежал он к мифическому племени кеноцефалов — наполовину людей, наполовину волков. В волчьей своей ипостаси соплеменники святого разбойничали по ночам, наводя ужас на Ликию и Памфилию. Солдаты римских наместников устраивали на них облавы, мобилизуя в качестве загонщиков местное население. Порой легионерам кого-то даже удавалось схватить и показательно распять на крестах. Хотя, поскольку днем кеноцефалы выглядели как обычные люди, это вполне могли быть банальные бродяги.
Святой же Бонифаций, приобщившись к истинной вере, ночи проводил в коленопреклоненных молитвах — и не позволял волчьей составляющей своей натуры взять верх над человеческой. Но на православных иконах святой изображался с волчьей мордой, смотревшейся в нимбе странновато. Всего этого Женя Чернорецкий, ныне ставший Эскулапом, в 1972 году не знал. В том была не его вина, скорее беда, — рос в такое время, когда с самой высокой трибуны было обещано: уже нынешнее поколение увидит, как последнюю действующую церковь закроют и превратят в музей. И как последний поп скинет рясу и займется общественно-полезным трудом.
Совет старухи Ольховской: «А ты разузнай у святого Вонифатия…» Женя воспринял не то как издевку, не то как бред умирающей. И не соотнес эти слова с иконой, привлекшей тогда его внимание странной формой заменявшего лик святого пятна (буквы под слоем лампадной копоти и тридцать лет назад разобрать было невозможно)…
Впрочем, в чудодейственную силу образов Эскулап не верил и теперь.
Но память, которую он терзал в поисках выхода и спасения, услужливо подсказала и другую особенность старой иконы. Толщина! Доска, на которой был изображен св. Вонифатий, по крайней мере вдвое превышала обычную.
Мысль мелькнула простая и очевидная — тайник! Тайник, в котором лежит… Что там может лежать, Эскулап, честно говоря, не представлял. Что, собственно, могло перевесить все возможности Лаборатории — технические, информационные, финансовые? Но что-то ведь смогло…
Эскулап знал точно — летом 38 года старая Ольховская ездила в Канск, и две недели обивала пороги, и добилась-таки свидания с сыном… Что она могла передать ему тогда? Некий амулет? Чудодейственное снадобье?
Неизвестно.
Но осенью Ольховский сбежал из лагеря (почему выжидал три месяца? — сплошные загадки). И побег сопровождался странной гибелью отряженной на поиски беглеца группы вохровцев…
Гибли люди и потом, уже в окрестностях Нефедовки — в дальних, до сотни километров, окрестностях — пока в 45-м вернувшиеся с войны сыновья погибшего от зубов неведомого зверя соседа Ольховских не организовали облавную охоту. И запаслись, надо думать, серебряными пулями… Но самое главное — за предшествующие шесть лет Владислава Ольховского не раз видели в человеческом обличье! Процесс был обратим, и, скорее всего, был обратим произвольно. Легенда о кеноцефалах обретала новый смысл.
Утопающий, как известно, хватается за соломинку. Умирающий — за веру в шарлатанов, варящих волшебные зелья, и в белых магов, снимающих порчу, и в исцеляющую силу икон и святых источников…
Эскулап умирал.
И исключением среди прочих умирающих не был, несмотря на три докторских диссертации, защищенные под тремя разными фамилиями. Правда, слепой вере все-таки предпочитал попытку разобраться в загадке…
И вот ключ к ней оказался в руках.
— Ты что же, варначье семя, задумал?! — вопила женщина.
Эскулап тяжело повернулся к ней. Икону не выпустил, прижал к груди.
Женщине было лет сорок — не Евстолия, мелькнуло у Эскулапа. Может, дочь? Одета, в затрапезные, вытянутые на коленях треники и кофту последнего срока носки. В руках держит измазанные в земле перчатки. Возилась на задах, на грядках, не иначе…