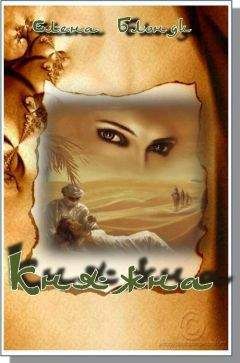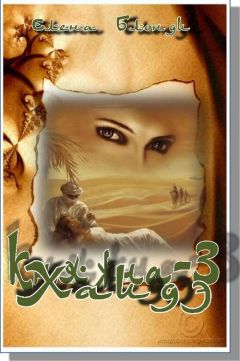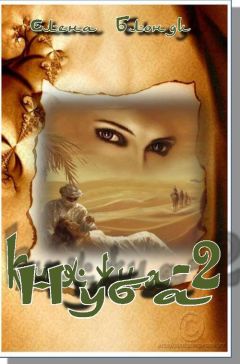Замедлив движения рук, поднял голову, прислушиваясь. Обогнав конский, еще неслышимый топот, прокричала где-то ивовая сойка. Не может она кричать сейчас, у сойки птенцы и женщины-сойки молча сидят в гнездах. А их мужья носятся, добывая еду, и им не до свадебного крика. Патахха положил на колени недоплетенный короб и стал ждать. Топоча, вылетел из-за палатки младший ши, тот что не нашел еще свое имя. Упал на колено и прижал руку к груди, испрашивая разрешения говорить. Патахха кивнул, прислушиваясь к конскому топоту, далекому, но явственному.
— Кто-то едет, небесный Патахха.
— Скажи Эргосу ши, чтоб проветрил палатку князя, безымянный.
— Это князь, небесный Патахха?
Шаман вздохнул и, опустив глаза, стал заплетать полоску лыка вокруг будущей ручки короба. Младший ши встал на оба колена и прижался лбом к примятой траве. Патахха не торопился подымать виноватого. Вот ручка короба стала толще и топот копыт уже слышен яснее. Он закрепил кончик лыковой полоски и, прикусив его зубами, затянул крепче. Положив короб рядом, устроил руки на коленях.
— Иди исполняй, ши-торопыга. И не беги, а то получишь это имя навсегда.
Младший ши оторвал голову от травы и Патахха спрятал улыбку, увидев, как отваливаются от гладкого лба смятые травинки. Кланяясь, младший ши исчез за палаткой. Конечно, ему не пристало носить имя ши-торопыга, но пусть поволнуется недолго.
Утро уверенно переходило в день, князь скачет к шаману с делом совсем необычным, какого не было в их общей судьбе. Оттого и крикнула в старые уши сойка ранней весны, которой нынче не может быть. А дальше к чему гадать, пусть князь сам расскажет, за чем едет, а дело не начнешь раньше, чем засверкает в окраине неба серьга Ночной красавицы. Потому князь, рассказав, отдохнет, дожидаясь вечера, а уедет прочь уже под утро. Патахха прислушался: улетели ли грифы из его головы. Нет, все ходят вразвалку, клекоча друг на друга. Вот еще один… Интересно, уйдут ли, когда прискачет князь, или так и будут рвать клювами мертвое мясо?
Он сидел, прислонясь к столбу, сложив на коленях старые руки. Не думал. Топот рос, заполняя уши, за спиной время от времени топотал ши безымянный, и ши Эргос шуршал покрывалом, которое достал из палатки князя. Потянуло дымком от свежего костра. И первый гриф, вынув из разорванного брюха скользкую голову, прислушался, блеснул маленьким глазом, поднялся в воздух, тяжело взмахивая серыми крыльями. За ним взлетел второй. Третий пробежал на когтистых лапах и тоже взмыл в синеву.
Последний гриф покинул голову Патаххи, когда князь осадил коня на вытоптанной между пяти палаток ровной площадке и спрыгнул на землю. Отвязав, свалил с крупа коня тушу барана с вылупленными мертвыми глазами на длинной морде. Патахха повел головой, восхищаясь возникшей в ней легкости и пустоте. Грифы унесли все мертвое и всю падаль, оставив лишь легкие тонкие косточки, которые омоет дождь и рассыплет ветер, сделав частью степи.
Патахха встал и поклонился гостю.
— Моя голова чиста, князь. Уши свободны.
Князь, кивнув ему, посмотрел на младших ши, и шаман поднял вверх обе руки, сложил кисти в знаке отсутствия. С тихим топотом младшие ши уволокли баранью тушу за палатки, и, прихватив корзины и верши, покинули маленький лагерь.
— Мой костер горит для тебя. В котелке горячая похлебка, а в плошке — вареные бобы. Есть вино в кувшине и вода в роднике. Если ты голоден и хочешь пить.
— Я голоден, Патахха. И хочу пить. Мне надо собраться с мыслями.
— Это лучшее место для мыслей, князь.
Ели, не торопясь, черпая по очереди деревянными ложками из поставленного на землю котелка. Торза взял было кувшин с вином, вытащив легкую пробку, подержал и закрыл снова, отсекая от запахов степи пряный аромат винограда и хмеля. Глотнул из меха родниковой воды. Патахха цедил горячую похлебку из ложки, жмурясь от удовольствия. Князь не приезжает сам без нужды. А значит надо поесть, как следует. Нескоро придется отдохнуть.
Когда, выскребя дно котелка, старший шаман хлопнул в ладоши, младшие ши, тихо шелестя мягкой обувью, набежали, похватав в шесть рук посуду, и скрылись, перешептываясь. Князь проводил их взглядом, молча. В стане шамана не говорили о пустяках и не вели вежливых бесед, скрывая истинные цели. Говорили о главном. Или молчали.
День ярился медовым солнцем, птицы висели в голубом небе черными крошками, издалека слышалось ржание жеребцов, гоняющих ласковых кобыл. Весна шумела и будто хлопала в ладоши, танцуя и поворачиваясь, блестя монетами ожерелий из прыгающих в ручьях рыб, взметывая подол из множества цветных трав, дрожа длинными серьгами на ветках кустарников. И насколько видел глаз, между палаток и выше их, наклоняясь к лицам сидящих, раскиданы были по травам степи огненные платки тюльпанов и ранних маков. Сладкое время, время любви. Время, когда даже Зубы Дракона смотрят вокруг, улыбаясь, и в глазах их тает ледяной отблеск снегов, а на его место приходит мед.
Патахха сидел, смежив веки, и был степью, цвикал степным прыгуном у осыпавшейся норы, пластал теплый воздух острым крылом ласточки, шуршал полевой мышью в стеблях мечинника. И так весомо было его молчание, что князь Торза, хмуривший черные с сединой брови, не заметил, как, положив руки на колени, тоже прикрыл глаза, и морщины на лбу разгладились. Сидел, подогнув под себя одну ногу, и растворялся в шуме и писке живой степи. Улыбался чуть заметно.
— Скажи, князь…
— М-м?..
— Какой птицей была последняя твоя женщина?
Князь кашлянул удивленно, не открывая глаз, но медлить не стал, ответил, вспоминая смуглое лицо Тои, и ее раскосые глаза с яркими белками:
— Той уточкой, что живут в дворцовых прудах. Заморской уткой.
— Хорошая птица.
— Да.
— А была ли у тебя сойка, князь?
Торза увидел перед собой крупную птицу с резкими движениями и требовательным взглядом, с крепким клювом и широкой голубой грудкой. Покачал головой:
— Нет, не было сойки. Не люблю я их. Женщина-сокол была. Да ты знаешь.
— Говори.
Князь, захваченный воспоминаниями об Энии, открыл рот, ожидая, что польется из него рассказ о том, как посмотрела чуть исподлобья, убрала рукой волосы, что выбились из-под чеканного шлема, как…
И заговорил, медленно выстраивая слова:
— Мой молодой воин — лучший из молодых, небесный Патахха, вырастил в голове запретный сад. И ему не нужны для этого ни женщина, ни злость битвы. Его голова и сердце питаются видениями, которые сами же и создают. И это бы ничего, я мог бы отправить его тебе, в младшие ши. Но сад его головы вытекает через рот и попадает в уши мальчиков. Заплетает их мысли, как заплетает старую рощу могучий травяной змей-ломонос. Он один, небесный Патахха, способен разрушить все, что создавал учитель Беслаи. И он сделал бы это быстро…