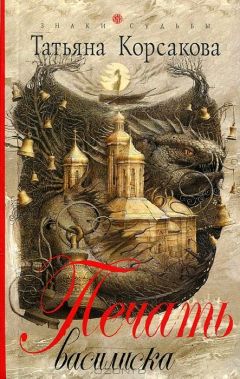Звук был едва различимый, но в царящей в доме тишине не услышать его оказалось просто невозможно. Кто-то – или что-то – было в Алиной комнате...
Нет времени ни на простыни, ни на виноград. А там, внизу, бархатная чернота, земли не видно. Может, спрыгнуть?..
Она бы спрыгнула, она даже ногу перебросила через перила, но не успела. На плечо легла тяжелая ладонь, сжала, потянула назад, на балкон.
– Ты что, сдурела?! Решила ноги себе переломать?! – голос был злой, гришаевский.
А она обрадовалась: и голосу этому, и чужим грубым лапам, и жаркому, с присвистом, дыханию. Хорошо, что он пришел. Теперь не так страшно, и можно расслабиться, и поплакать на радостях тоже можно. Не может она больше с этим жить, когда кругом только тайны, страх и неизвестность. И уехать не получается, потому что Василиск ее не отпускает.
– Ну что ты плачешь? Как маленькая, честное слово! – руки больше не были грубыми, не сжимали, а гладили, ласково, успокаивающе. – Ты обиделась, что ли, что я за шиворот тебя? Так я же не со зла. Зашел посмотреть, как ты тут одна, в темноте. А в комнате никого, и осколки на полу валяются. Хорошо, что догадался на балконе проверить. Ну не реви ты, рубашку мне всю замочила.
В темноте Аля не могла видеть гришаевского лица. Впрочем, ей вполне хватало прикосновений и голоса. У него красивый голос, успокаивающий. Только вот успокоиться все равно никак не получается. А рубашку его она потом постирает. Или не постирает, ей же теперь к воде подходить нельзя. Вода теперь ведет себя с ней словно живая.
– Так, с меня хватит! – Наверное, ему надоело ее утешать. Убедился, что с ней все в порядке, и можно идти к себе. А вот ей к себе никак нельзя. Придется тут, на балконе, до самого утра... Теперь уже не так страшно, потому что Гришаев поблизости. Только бы он больше никуда не ушел.
Она не собиралась делать то, что сделала. Не собиралась цепляться за его рубашку и прижиматься к ней мокрой от слез щекой тоже не хотела. Она хотела быть гордой и независимой, но вот как-то не вышло...
А он разозлился. Точно разозлился, потому что весь подобрался, и мышцы под рубашкой стали каменными, а ладони, до этого момента прохладные, сделались горячими и тяжелыми, точно свинцом налитые. И голос изменился: слова стали глухими, а дыхание злым и частым.
– Ну что же ты за женщина такая... наказание, а не женщина...
Да, она наказание. Тимур тоже так считал и пытался ее переделать, чтобы не была наказанием, а была примерной. А Гришаеву переделывать ее не нужно, достаточно просто оттолкнуть и уйти к себе. Пусть бы ушел! Вот она уже и рубашку его драгоценную отпустила...
Гришаев не ушел, Гришаев вздохнул, коротко и зло, и так же зло впился в ее губы поцелуем. И руки не разжал, наоборот, обнял Алю так сильно, что на мгновение даже стало больно. И свет, кажется, включился, потому что перед глазами вдруг засверкало праздничным фейерверком, ярко, до рези.
Он отпустил ее всего лишь на секунду, чтобы отдышаться, перехватить поудобнее и еще раз сказать, что она наказание. А потом все повторилось: и поцелуй, и фейерверк. И жить вдруг сразу стало не страшно. То есть страшно, конечно, но не тем страхом, от которого гусиная кожа и электричество в волосах, а другим – приятно-колючим, как гришаевская небритая щека...
Ночевать Аля осталась у Гришаева. Хотя ночевать – это громко сказано. Ночь, подсвеченная фейерверками, сглаженная поцелуями и прикосновениями, пролетела незаметно, черной кляксой вылилась в молочно-дымный, припорошенный туманом рассвет. А поговорить им так и не удалось, все как-то не до разговоров было...
– Эй, – гришаевская ладонь легла на Алино плечо, только теперь уже не ласково, а настойчиво. – Ну-ка, давай рассказывай.
Она не хотела рассказывать, она хотела уткнуться носом в подушку, а еще лучше в гришаевский бицепс, и хоть немножечко поспать.
– Не мычи, а рассказывай, – ладонь сползла с плеча на спину, заскользила вниз, пересчитывая позвонки. – Аля, это же очень важно. Как ты не понимаешь!
Что важно? То, что вода теперь ведет себя с ней как живая? Так, может, показалось? А ваза просто так разбилась – старая была, вот и треснула. Ей бы подремать немного, а потом бы она ему все-все рассказала.
– Аля! – Гришаев рывком перевернул ее на спину, встряхнул за плечи, не больно, но обидно. Сам всю ночь спать не давал, а теперь пытает... – Аля, давай поговорим.
– Давай, – она села, до подбородка натянула простыню, спихнула с коленки наглую гришаевскую лапу. – Что ты хочешь услышать?
– Все по порядку. – Гришаев смотрел серьезно. Даже растрепанные волосы, даже отсутствие одежды не мешали ему выглядеть серьезным и сосредоточенным. А руку он так и не убрал, словно невзначай, примостил обратно на Алину коленку.
– Странное все, – она дернула плечом.
– Вижу, что странное. А ты расскажи, что именно тебе кажется странным.
Рассказать? А почему бы и нет?! Она же давно хотела кому-нибудь рассказать, поделиться наболевшим. Вот хоть бы даже и с ним.
– Знаешь, – она осторожно, словно опасаясь, что Гришаеву может не понравится, смахнула с его лба влажную прядь, пригладила взъерошенные волосы и только потом продолжила: – Я, наверное, и есть его невеста.
– Чья?
– Василиска. Мне напрямую никто об этом не говорил, но по всему выходит, что это именно я.
Гришаев тяжело вздохнул. Аля надеялась, что он начнет ругаться, убеждать ее, что никаких василисков не существует, а он вот не стал.
– Все, девочка, я тебя слушаю и не перебиваю.
И она рассказала. Все, от начала до конца. И про то, как дед ее нашел, и про перстень, дедов подарок, и про ночное нападение у Настасьиной топи, и про предупреждения бабы Агафьи, и про старинный крест, и про аквалангиста. Даже про визит Настасьи-утопленницы, змеиное воинство и треснувшую вазу рассказала. А чего уж теперь, когда все сказанное кажется сказкой, одной из легенд, которые Гришаеву положено собирать по долгу службы!
– Я понимаю, что тот аквалангист – это скорее всего и есть преступник, – она не удержалась, потерлась щекой о гришаевский подбородок. У него красивый подбородок, с ямочкой. – И скорее всего это он тут всех пугает, чтобы к озеру не совались. Но с озером тоже что-то неправильное творится. Я своими собственными глазами видела, как по нему ни с того ни с сего волна шла. Знаешь, такая, как будто там, на дне, что-то очень большое шевелится. И звук, про который Эллочка рассказывала, я тоже слышала. А еще этот колокольный звон... – она осеклась, заглянула в синие гришаевские глаза, спросила: – Колокольный звон – это правда твоих рук дело?
– Нет, – он отрицательно мотнул головой. – Веришь, сам удивился, когда услышал. Думал, легенда, а оно вон как вышло.