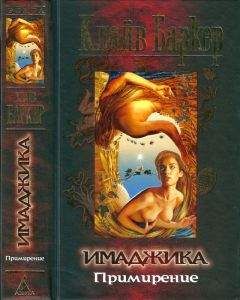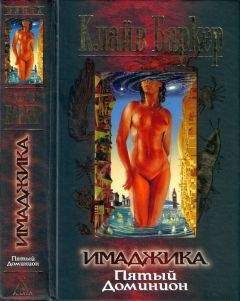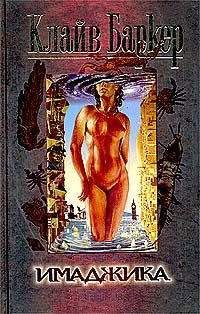Он поставил перед ней большую чашку чая и баночку с медом. Обычно она не позволяла себе много сладкого, но в этот день она не завтракала и положила в чай столько ложек, что он превратился в сироп.
— Когда я оказался в доме Греховодника, — продолжал Оскар, — он был уже пуст. На улицах повсюду шли перестрелки. Я не знал, откуда начинать поиски. Это был какой-то кошмар.
— Ты знаешь, что Автарх свергнут?
— Нет, не знаю, но ничуть не удивлен. Каждый Новый Год Греховодник заявлял: «В этом году он сгинет, в этом году он сгинет!» Кстати, что случилось с Даудом?
— Он мертв, — сказала она, и удовлетворенная улыбка слегка тронула уголки ее губ.
— Ты уверена? Знаешь, моя дорогая, таких, как он, трудновато прикончить. У меня есть опыт по этой части.
— Так ты говорил…
— Что я там такое говорил?
— Что ты последовал за нами и обнаружил, что дом Греховодника пуст.
— А полгорода — в огне. — Он вздохнул. — Это было трагичное зрелище. Все это бессмысленное разрушение, месть пролетариев… Да, конечно, я понимаю, что должен был бы радоваться победе демократии. Но что осталось после этой победы? Мой возлюбленный Изорддеррекс в руинах. Я посмотрел на все это и сказал себе: это конец целой эпохи, Оскар. После этого все будет иначе. Гораздо мрачнее. — Он оторвал взгляд от чашки с чаем, в которую глубокомысленно смотрел во время монолога. — Кстати, Греховоднику удалось остаться в живых, ты не знаешь?
— Он собирался покинуть город с Хои-Поллои. Думаю, что с ними все в порядке. Он даже успел очистить подвал.
— Нет, это сделал я. И я рад этому.
Он бросил взгляд в направлении подоконника. Угнездившись среди хозяйственных мелочей, там выстроился ряд миниатюрных статуэток. Скорее всего талисманы из запасов подвала Греховодника. Некоторые из них смотрели в комнату, некоторые — во двор. Каждая представляла собой воплощенную ненависть и агрессию; на ярко раскрашенных лицах застыло совершенно бешеное выражение.
— Но ты — моя лучшая защита, — сказал он. — Только когда ты рядом, я начинаю надеяться, что есть кое-какой шанс пережить все это. — Он накрыл ее руку своей. — Когда я получил твою записку и понял, что ты жива, во мне затеплилась надежда. Потом я долго не мог с тобой связаться и начал воображать самое худшее.
Она оторвала взгляд от его руки и заметила в его лице фамильные черты, что прежде не бросалось ей в глаза. В нем было эхо Чарли, Чарли, сидевшего у окна в Хэмстедской лечебнице и говорившего о трупах, которые выкапывали под дождем.
— А почему ты не приехал ко мне? — спросила она.
— Я не мог выйти отсюда.
— Тебя так сильно мучает боль?
— Да нет, не из-за этого, — сказал он, поднося руку к груди. — Из-за того, что ждет меня там.
— Ты думаешь, «Tabula Rasa» охотится за тобой?
— Господи, нет конечно. О них-то уж точно не стоит беспокоиться. Я тут было подумал предупредить одного или двух из них — анонимно, конечно. Ни Шейлса, ни Макганна, ни этого болвана Блоксхэма. Эти пусть себе жарятся в аду. Но Лайонел всегда по-дружески ко мне относился. Даже когда был трезв. И женщины. Мне не хотелось бы, чтобы их смерть была на моей совести.
— Так от чего ты прячешься?
— Я сам не знаю этого, — признался он. — Я видел образы в Чаше, но не смог их до конца истолковать.
Она совсем забыла о Бостонской Чаше с ее маревом пророческих камней. Судя по всему, теперь Оскар поставил свою жизнь в зависимость от малейшего их постукивания.
— Нечто явилось сюда из Доминионов, моя дорогая, — сказал он. — В этом я абсолютно уверен. Я видел, как оно приходит за тобой. Пытается тебя задушить…
Рыдания вновь подступили к его горлу, но она успокоила Оскара, слегка похлопав по руке, словно он был капризным, выжившим из ума старичком.
— Ничто не причинит мне вреда, — сказала она. — Слишком много я пережила за последние несколько дней и, как видишь, уцелела.
— Ты никогда не встречалась с такой силой, — предупредил он. — Впрочем, как и весь Пятый Доминион.
— Если это существо пришло из Доминионов, значит, это происки Автарха.
— Ты так уверенно это утверждаешь…
— Потому что я знаю, кто он такой.
— Ты наслушалась Греховодника, — сказал он. — Он сыплет теориями, дорогая, но ни одна из них не стоит и ломаного гроша.
Его снисходительность разозлила ее, и она убрала из-под его руки свою.
— Мой источник информации куда более надежен, чем Греховодник, — сказала она.
— Да-а? — Он понял, что обидел ее, и теперь пытался загладить вину преувеличенным вниманием. — И кто же это?
— Кезуар.
— Кезуар? Да как, черт возьми, тебе удалось к ней пробраться?
Удивление его было настолько же неподдельным, насколько фальшивым было предшествующее умасливание.
— А у тебя нет никаких догадок? — спросила она у него. — Разве Дауд никогда не болтал с тобой о добрых старых временах?
Теперь лицо его приняло осторожное, почти подозрительное выражение.
— Дауд служил многим поколениям Годольфинов, — сказала она. — Разумеется, ты знал это. Вплоть до чокнутого Джошуа. Собственно говоря, он был его правой рукой.
— Это мне известно, — тихо сказал Оскар.
— Значит, ты должен знать и обо мне.
Он промолчал.
— Ответь мне, Оскар!
— Я не говорил о тебе с Даудом, если ты об этом спрашиваешь.
— Но ты знал, почему вы с Чарли держали меня при себе?
Теперь настал его черед обижаться; он поморщился от ее выражения.
— Именно так все и было, Оскар. Вы с Чарли торговались из-за меня, зная, что я обречена служить Годольфинам. Конечно, я могла куда-то исчезнуть на время и завести роман на стороне, но рано или поздно я должна была вернуться в семью.
— Мы оба любили тебя, — сказал он, и в голосе его послышалось то же смущенное непонимание, что отразилось на его лице. — Поверь мне, ни один из нас не понимал подоплеку этого дела. Мы даже и не задумывались об этом.
— Да что ты? — сказала она с сомнением.
— Я знаю только одно: я люблю тебя. Это единственное, в чем я уверен в этой жизни.
Ее подмывало подкислить этот сахарин рассказами о происках его семьи, жертвами которых она стала, но был ли в этом смысл? Перед ней был человек, страдающий от ран и ссадин и запершийся у себя дома из страха перед тем, что новый день может привести к нему на порог. Обстоятельства и так уже потрудились над ним. Дальнейшие действия с ее стороны стали бы проявлением неоправданной злобы, и хотя было еще немало причин, по которым он заслуживал ненависть и презрение — его болтовня о мести пролетариев была особенно отвратительна, — в недавнем прошлом она была настолько близка с ним и испытала такое облегчение от этой близости, что не могла сейчас быть с ним жестокой. Кроме того, ей предстояло сообщить ему весть, которая, без сомнения, будет для него куда более тяжелым ударом, чем любое обвинение.