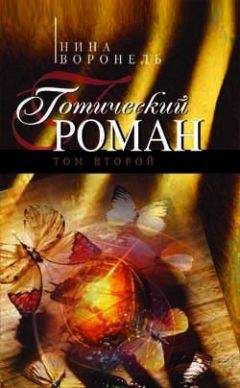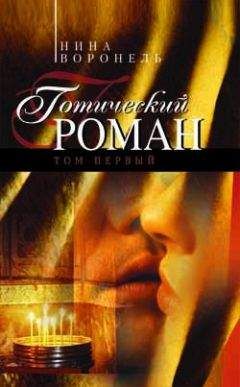Он расправил газету. Следующий абзац был почти в сохранности:
«Свои последние дни М.Б. провел в городской больнице Берна, куда попал сразу после своего приезда из Лугано, где он проживал в последние годы на принадлежащей ему Вилле Брессо».
Значит, Мишель жил в Швейцарии, совсем неподалеку от тех мест, где и Рихард провел много лет. Да и часто с тех пор часто бывал наездами. Он ведь, собственно, знал об этом, – то ли слышал, то ли читал в газетах. Знал, наверняка знал, но как-то изловчился вытолкнуть из памяти, чтоб не давило, не напоминало, не беспокоило уколами совести. И ни разу не попытался найти Мишеля, черкнуть ему письмишко, условиться о встрече. Но и Мишель тоже хорош, – предположим, у Рихарда были причины избегать Мишеля, но ведь и Мишель не попытался с ним связаться. А не мог не знать, что Рихард живет в Байройте. Последние годы он стал знаменит, о нем много и зло писали жиды и журналисты, что, в сущности, одно и то же. Особенно после успеха прошлогоднего фестиваля, который они стремились объявить провалом. Что ж, возможно, и у Мишеля были свои причины избегать Рихарда. Например, эта Вилла Брессо, якобы принадлежащая ему. Ему, человеку, страстно отвергавшему саму идею собственности? Впрочем, журналистам ни в чем нельзя верить, равно как и жидам. Очень может быть, что такой виллы вообще нет на свете, – интересно, кем подписан этот некролог?
Рихард перевернул смятый листок и поглядел на подпись – «группа друзей», и прямо через абзац над подписью вдруг увидел свое имя. Сердце на миг екнуло – «неужто пронюхали?» – и он стал торопливо читать:
«Последний раз М.Б. покинул стены больницы, чтобы посетить своего друга, пианиста Адольфа Райхеля, который сыграл ему несколько вещей его любимого Бетховена. «Наш мир погибнет, – сказал Мишель, слушавший музыку стоя, поскольку сильные боли не позволяли ему сидеть, – и только Девятая Симфония останется». И он вспомнил, как в 49 году в Дрездене, прямо накануне восстания, ему посчастливилось присутствовать при необыкновенном исполнении Девятой Симфонии Бетховена. Дирижировал ныне прославленный композитор Рихард Вагнер. И, перейдя к последним произведениям своего бывшего соратника и друга, Мишель, превозмогая боль, высказал неодобрение по их поводу».
Вот как, неодобрение, значит? Мы это переживем… Однако соратником и другом все же назвал, хотя, может, это группа друзей постаралась, чтобы придать покойному больше значительности. Потому что из описания похорон никакой значительности не получалось:
«Похороны прошли очень скромно. Это было 3-е июля, стоял жаркий летний день, снежные пики сверкали над городом в безоблачном небе. В ожидании прибытия похоронного кортежа могильщики отпускали шутки по поводу размера заказанной им могильной ямы. Гроб прибыл в сопровождении небольшой группы провожающих, их было не более тридцати пяти. Присутствовали только представители разных швейцарских секций Интернационала, иностранных друзей и последователей не успели оповестить. Некоторые из присутствующих плакали. Но вся церемония в целом производила впечатление мелкой, не соответствующей грандиозному масштабу личности усопшего борца с тиранией буржуазного общества».
Супруга покойного, Антония, была извещена о смерти мужа по телеграфу и прибыла из Неаполя только через несколько дней после похорон».
Ах, так у Мишеля была жена, – вот это, действительно, новость! Жена Антония, которая не побеспокоилась даже навестить умирающего мужа в больнице, хоть, как сообщает «группа друзей», он с 28-го июня был в агонии. А она не только не мчалась к смертному одру супруга, но прохлаждалась в Неаполе, а не в Лугано, где была якобы принадлежащая ее мужу Вилла Брессо. Не загадка ли это?
Для кого-нибудь, возможно, и загадка, а для Рихарда единственной загадкой здесь было само наличие у Мишеля жены. Но и он готов был допустить вмешательство неизвестных ему обстоятельств, побудивших его бывшего соратника и друга к женитьбе.
За дверью опять послышался шорох:
– Рихард, Рихард! – позвал голос Козимы, – ты выйдешь к ужину? Дети уже сидят за столом.
– Уже иду! – нехотя откликнулся Рихард и начал поспешно натягивать сброшенную с плеч на пол стеганую, обшитую золотым шнуром, домашнюю куртку испанского бархата. Застегивая обтянутые узорным шелком пуговицы, он вдруг почувствовал, что пальцы занемели и плохо слушаются, – то ли он слишком разнервничался, то ли продрог, сидя на краю холодной ванны в одной тонкой сорочке. Однако он заставил себя застегнуть все пуговицы в правильном порядке. Ни к чему было показывать при детях, что он чем-то расстроен. Хотя он давно заметил, что дети вовсе не так чувствительны, как Козима старается представить. Не далее, как вчера он застиг своих дочерей за тем, что они разрывали землю в центре тщательно им самим спланированного и заранее любовно воздвигнутого могильного холма, достойного его грядущей славы. На его вопрос, что они там делают, они ответили с простодушной наивностью, что ищут червей для своей черепахи!
За ужином Рихард был рассеян и молчалив, однако не преминул заметить на щеках Козимы следы недавних слез. Она то и дело бросала на него испуганные взгляды, но не отважилась спросить, чем он так озабочен. Он еще не решил, стоит ли рассказывать Козиме про смерть Мишеля, – она по натуре была излишне чувствительна и склонна к легким слезам. Кроме того, он понимал, что сегодняшняя посылка беспокоит ее не столько из-за неизвестного ей содержимого, сколько из-за неизвестного ей отправителя. Если он покажет ей скверную парижскую газетенку с некрологом, она сразу заподозрит, что посылка от Джудит. Она, похоже, и так что-то подозревает, оттого последнее время бледна и часто жалуется на головную боль. Нужно предупредить Шнаппауфа, чтобы был поосторожней с письмами, а насчет посылки он обязательно что-нибудь придумает, но только завтра, сегодня у него мысли путаются из-за Мишеля.
Сегодня он должен побыть один. Рихард хорошо знал свои нервы, – он долго теперь не сможет спать по ночам, и кожа его покроется красной сыпью, он уже чувствует, как начинается нестерпимый зуд под мышками и в паху. Спасение только в одном – сосредоточиться, вспомнить до мельчайшей детали то, что его мучает, чтобы поскорей начисто это забыть и освободиться навсегда.
Он постиг эту премудрость в последние годы своей совместной жизни с Минной, если этот кошмар можно назвать жизнью. Она истязала его бессмысленной ревностью, а он истязал ее приступами яростного раздражения. Удивительно, как он не прикончил ее в одну из очередных минут застилающей глаза ненависти!
Тогда он тоже не спал по ночам и с ног до головы покрывался зудящей красной сыпью. Но однажды невероятным усилием воли преодолев желание разбить об ее голову одну из ее обожаемых фарфоровых ваз, он взял маленький заплечный мешок и ушел в горы, – благо, тогда они жили в Швейцарии! Три дня он провел в полном одиночестве, блуждая среди скал по козьим тропам и питаясь хлебом с сыром, который покупал за гроши у неприветливых местных крестьян. И на третий день в голове его прояснилось какое-то окно, сквозь которое он увидел, как он любил ее когда-то и как сходил с ума, когда она пару раз бросала его и уходила к другому. В те дни не она ревновала его, а он ревновал. Он не мог сказать, было ли это легче, – страдание всегда было его уделом, он безмерно страдал и от любви, и от ненависти.