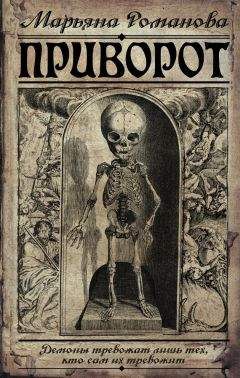Кукла была чудом, нездешним и хрупким, и все это понимали.
А дальше все так быстро получилось…
Артамонова потом пыталась вспомнить подробности, да мысли путались. После похорон дочери она все лежала в кровати – слез не осталось, кончились, так что она просто в стену смотрела и не выдавала никаких реакций миру. Казалось – ножом от нее куски отрезай – не заметит даже. Вот муж и пригласил к ней известного психиатра, и тот сжалился, помог достать немецкое лекарство, дорогое и дефицитное. Таблетки эти сделали Артамонову похожей на ребенка, она начала улыбаться и жить безмятежно и не задумываясь о прошлом и будущем, как живут деревья, цветы и, наверное, шаолиньские монахи.
На следующий день после появления куклы в доме Варенька слегла с температурой – никто не заволновался особенно, дети болеют часто.
На третий день вызвали «неотложку», полуобморочной Варе сделали какой-то укол. Она была такая осунувшаяся и притихшая, совсем не капризничала – вот только новую куклу отказалась выпускать из рук. Спала с ней, под одним одеялом, обнимая.
Кажется, именно тогда Артамоновой впервые показалось, что у куклы все же странное лицо – выражение его меняется в зависимости от освещения. Когда ее только принесли в дом, она была бледна и серьезна, а теперь фарфоровые губы словно потемнели, и едва заметная улыбка слегка растянула их, что было конечно же абсолютно невозможно. Варя больше не встала.
Через неделю они нашли профессора, тот немного успокоил – нет, ничего страшного, необходимости в госпитализации нет. В тот вечер Артамоновы немного расслабились и даже выпили домашнего вишневого вина. А ночью Варя отошла, даже не проснувшись.
Таблетки действовали на Артамонову-мать так, словно ее толстый ком ваты окутал, в этом даже было какое-то особенное растительное счастье. Однако иногда случалось, что муж задерживался на работе и забывал скормить ей пилюлю в определенный час, и вот тогда она оказывалась в аду – просыпалась на несколько десятков минут, и ей дышать даже становилось больно от сжирающей тоски.
В один из таких часов на глаза ей попалась кукла, которая так и осталась сидеть на пустой кровати дочери. Артамонова не смогла бы объяснить, что на нее нашло – вдруг проснулась ярость, похожая на Ктулху с трепещущими мускулистыми щупальцами. В один прыжок женщина достигла кровати. Схватила куклу за шелковые волосы и ударила о дверной косяк. Фарфоровое лицо разбилось сразу же, но Артамоновой показалось, что напоследок кукла посмотрела на нее с насмешливым Пониманием. В клочья разодрав кружевное платье куклы, Артамонова бросила ее на пол и топтала ногами осколки до тех пор, пока они не стали совсем крошечными.
Вдруг ей показалось, будто что-то белеет среди битого фарфора – она наклонилась, увидела аккуратно сложенный лист бумаги, развернула… «Памяти Анжелики Сазоновой, скончавшейся 1 января 1910 года в возрасте трех с половиною лет от болезни необъяснимой и скоротечной».
Так ее и обнаружил муж – тихо сидящую на полу, что-то беззвучно шепчущую, с бумажкой в руках. Артамонова подняла на него прояснившиеся глаза и прошептала:
– Волосы… У куклы были настоящие волосы. Этой бедной девочки, Анжелики… Ее так и назвали. Надо их похоронить.
– Кого… Кого «их»? Успокойся, сейчас я дам тебе лекарство.
– Волосы… Мы должны похоронить эти волосы.
То, что осталось от куклы – осколки, обрывки платья и клочок пшеничных волос, – супруги аккуратно собрали в коробку и закопали на одном из московских бульваров.
Артамонова и табличку хотела поставить, но муж не позволил – все же это были восьмидесятые, психиатрический диагноз закрывал для человека большинство дверей, и он боялся публичных проявлений ее безумия. Надеялся, что курс немецких таблеток поможет, время залечит раны, жена поправится. Так, в общем-то, и получилось.
Конечно, прежней она не стала, постарела в считаные дни, превратилась в тихую и хмурую бабку, но зато к ней вернулись и ясность ума, и самоконтроль. Теперь боль жила только в ее глазах – в остальном же Артамонова казалась обычным городским жителем.
О кукле они никогда не вспоминали.
Мой сосед нес к мусорным контейнерам нарядную бумажную коробку. В его поступи был какой-то неуместный торжественный пафос, что дало мне повод дежурно пошутить, встретившись с ним взглядом. Сосед вздохнул горько и сказал:
– Утром вот Самурай кончился… Старый был совсем, двенадцать лет. Последний год и не видел ничего, и ссал где попало. Отмучился.
Самурай был котом, персом, – я помнила его меховым клубком и в очередной раз удивилась, как быстро летит время. Мы немного постояли у помойки, покурили молча. Не говорить же прощальную речь над несуществующей могилой кота. Когда шли обратно, я не выдержала и спросила:
– А почему не похоронил? У тебя же машина. Вывез бы за город, выбрал место красивое…
– Да жизнь такая пошла, – махнул рукою сосед, – сегодня совещание, завтра – еще какая-то фигня… Да и разве важно сейчас ему, Самураю, все это. Это ведь просто тело. Никому не нужно это.
«Важно и нужно», – хотела сказать я, но промолчала. Все равно сосед не поверит. Не то чтобы мы приятельствовали, но по одному выражению его простого, словно циркулем очерченного лица было ясно, что едва ли он часто задумывается о «тонких материях». Обзавестись же репутацией дворовой сумасшедшей в мои планы пока не входило.
Я ничего ему не сказала, однако спустя несколько часов, когда стемнело, вернулась к контейнерам. Коробка лежала на самом верху мусорной кучи, она была открыта – видимо, любители порыться в шелухе чужой жизни понадеялись, что за такими красивыми картонными стенками находится что-нибудь годное для реинкарнации – в другом доме, у новых хозяев, которые не так привередливы и богаты. Постельное белье или посуда со сколами на ободках, например. Но в коробке был кот, мертвый остывший кот, неестественно вытянувший лапы.
Я переложила коробку в багажник моего авто. Когда торопливо вела машину по Ярославке, мне было немного не по себе, все время хотелось обернуться. Чувствовала на затылке чей-то взгляд. Но я знала, что, во-первых, реальной опасности это ощущение – беззащитности перед перешедшим на ту сторону существом – не представляет, и, во-вторых, – оборачиваться ни в коем случае нельзя. Потому что он действительно за моей спиной и действительно смотрит на меня, внимательно и равнодушно, и, встретив этот пустой взгляд, я могу машинально вильнуть рулем и выехать на встречную полосу.
Через какое-то время я свернула на боковую дорогу и припарковалась на обочине у жиденького леса. Ночь была прохладной, надкушенная луна пыталась облечься в обрывки серых облаков. Немного углубившись в лес, я попробовала землю носком туфли. Мягкая. Вернулась к машине – в багажнике была и лопата.