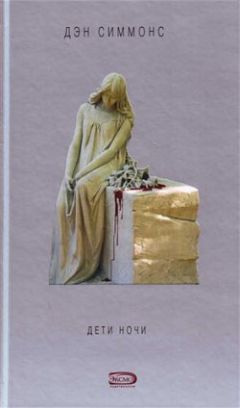Лучан кивнул и пошел вперед по темному коридору. На улице снова начался сильный дождь. Сев в машину, Кейт наконец вздохнула полной грудью.
– Тебе знакомо имя, которое он написал?
– Да, – ответил Лучан без своей обычной улыбки. – Оно хорошо известно в Бухаресте. Мой отец знал этого человека.
– И ты считаешь, что он действительно может быть членом тайной номенклатуры?
Лучан чуть не пожал плечами, но сдержался.
– Не знаю, Кейт. Просто не знаю. Но это имя может стать исходной точкой.
Она кивнула.
– А что это за пословица, которую упомянул Амадди? Лучан завел машину и потер щеку.
– Copilul cu mai multe moase romana cu buricul ne taiat… как бы это сказать… «У семи нянек дитя без глаза»?
Но дословно это звучит так: «Когда у ребенка слишком много повивальных бабок, пуповина остается неразрезанной».
– Ха-ха, – сказала Кейт.
Обратно по пустым улицам они ехали в молчании.
Когда они вошли в холодное, полутемное подвальное помещение, О’Рурк их уже ждал. Глаза у него покраснели, он был небрит, хотя и одет в свой черный костюм с белым воротничком. Он развалился в ветхом кресле и лишь следил взглядом за Лучаном, когда тот засуетился, чтобы разжечь огонь в другой комнате и поставить на горячую плиту кастрюлю с супом.
– Вы нашли Попеску? – спросила Кейт.
– Нет. Весь день я провел в Тырговиште.
– Тырговиште? – Кейт помнила этот городок милях в пятидесяти от Бухареста, где находился приют, из которого перевели Джошуа.
– Что-нибудь выяснили?
– Да, – ответил О’Рурк. В его голосе звучала усталость. – Администрация приюта по-прежнему не располагает никакими сведениями о родителях Джошуа. Он был найден в аллее возле приюта.
– Плохо, – сказал Лучан, попробовав суп и скорчив гримасу. – По-моему, вы оба предпочитаете не такое острое варево.
– Но я сунул на лапу сторожу, чтобы он описал мне двух людей, которые организовали перевод Джошуа из Тырговиште в Бухарест, – продолжил священник. – Сторож смог сделать это, потому что они явились лично для организации перевода.
– И что? – спросила Кейт, доставая из кармана бумажку. Если повезет, то Лучан сможет сказать, соответствует ли внешность названного Амадди человека описанию сторожа.
– Один из них среднего возраста, низкорослый, тучный, угодливый, с зачесанными назад волосами, курит «Кэмел».
– Попеску, – догадалась Кейт.
– Да, – подтвердил О’Рурк. – А с Попеску был молодой человек, тоже румын, но с безупречным американским произношением. Сторож слышал, как этот молодой человек отпустил какую-то шутку на английском в разговоре с администратором больницы. Еще он сказал, что тот был в дорогих американских джинсах… кажется, «Ливайс»… и в каких-то кроссовках западного производства с бегущей волной по бокам. Он и Попеску увезли Джошуа в голубой «дачии».
Кейт повернулась и посмотрела на Лучана. Тот опустил деревянную ложку обратно в кастрюлю с супом.
– И что, – сказал он. – Мало ли в этой стране голубых «дачий».
О’Рурк поднялся.
– Сторож слышал часть разговора перед отправкой Джошуа. – Голос его был тихим. – Молодой человек с безупречным американским произношением упомянул, что он студент-медик. А шутка на английском звучала примерно так: если он не найдет богатого американца, который купит ребенка, тогда он продаст его вивисекторам из университетской медицинской школы.
Лучан направился к выходу, но Кейт загородила ему дорогу.
– Сторож слышал, как Попеску называл молодого человека по имени, когда они считали деньги для взятки администратору приюта. – О’Рурк сделал паузу. – Он называл его Лучаном.
Жизнь моя состоит теперь почти только из шепота и снов. В снах я вижу те дни и тех недругов, которых уже нет; а шепот доносится и из зала, и с лестницы, и из моей спальни, будто я уже мертвец, – о том, как ребенок был возвращен к Церемонии Посвящения. Теперь этот шепот звучит самодовольно. Они похваляются тем, как ловко им удалось вернуть ребенка. Они не говорят, как он был потерян или похищен. Они не представляют себе или просто не помнят, какие страшные кары, какое наказание обрушилось бы на них, будь я Владом старых дней, узнавшим о такой нерадивости своих подчиненных.
Но теперь это не имеет значения. Я уже не тот Влад. Прошедшие десятилетия и века позаботились об этом.
Сны мои – это воспоминания, не претерпевшие изменений в течение столетий, и в снах этих я впервые вижу себя. Я слышу разговоры шепотом о последних деталях планируемой Церемонии, слышу, как члены Семьи спорят между собой о том, может ли их умирающий Отец присутствовать на Церемонии, пребывая в столь плачевном состоянии. Но хоть краем уха я и улавливаю эти разговоры шепотом, только снами поглощено мое внимание.
Придворный поэт Фридриха III Михаэль Бехайм описал мою встречу в 1461 году с тремя босоногими монахами-бенедиктинцами: братом Хансом Носильщиком, братом Михаэлем и братом Якобом. Эту историю Бехайм услышал от третьего монаха, брата Якоба, и его искаженное изложение событий переписывалось, упоминалось и пересказывалось в течение пяти веков. О беспристрастности поэта Бехайма можно судить по изначальному названию его поэмы, когда он пел ее императору Священной Римской империи в 1463 году: «История кровожадного безумца по имени Дракула из Валахии».
Немногие осмеливались оспаривать рассказ брата Якоба, записанный поэтом Бехаймом. Никто не слышал полного рассказа об этом событии. До сих пор.
Случилось все следующим образом: в те дни епископ Любляны Сигизмунд из Ламберга воспользовался распространенным убеждением, что монахи словенского аббатства Горрион в Горнийграде восприняли объявленную вне закона ересь святого Бернарда, чтобы под этим предлогом изгнать монахов из монастыря и присвоить их собственность. Трое из тех монахов – брат Ханс Носильщик, брат Михаэль и брат Якоб – бежали и, переправившись на севере через Дунай, пришли во францисканский монастырь в моей столице Тырговиште.
Хоть впоследствии я и был вынужден принять по политическим мотивам католическую веру, я ненавидел эту подлую религию, да и теперь в грош ее не ставлю. Церковь в то время была лишь одной из соперничавших властей, и притом беспощадной, несмотря на все усилия спрятать свои алчные, корыстные побуждения под покровом благочестия. Сомневаюсь, что с тех пор она изменилась. А францисканцы казались худшими из всех. Монастырь в Тырговиште был для меня как гвоздь в сапоге, и если я его терпел, то лишь потому, что политические осложнения в связи с их выдворением перевесили бы облегчение, которое я мог испытать после их изгнания. Простой люд любил льстивых, постоянно молящихся и говеющих францисканцев, несмотря на то что монахи выжимали из народа за счет милостыни и десятины последние крохи и постоянно выклянчивали еще. Церковь Валахии в те дни – особенно этот проклятый францисканский монастырь, который, несмотря на все мои тогдашние усилия, так и стоит в Тырговиште до сего дня, – была паразитом, жиревшим и распухавшим на кровавых деньгах, которые гораздо большую пользу принесли бы моему княжеству, окажись они у меня в руках.