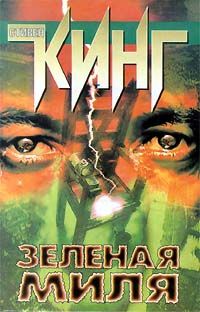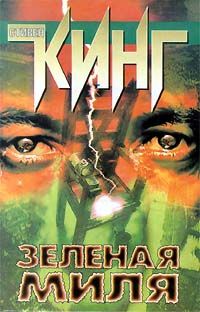Много раз моя машина заводилась с пол-оборота, с тех пор как я начал рассказ о Джоне Коффи, но вчера пришлось крутить рукоятку. Наверное, это потому, что я дошел до казни Делакруа и какая-то часть моего разума никак не хочет успокоиться. Эта смерть была ужасной, просто потрясающе ужасной, и все из-за Перси Уэтмора, молодого человека, который очень любил причесывать свои волосы, но не терпел, когда над ним кто-то смеялся, — даже наполовину лысый французик, которому не суждено было дожить до Рождества.
Как во всякой грязной работе, самое тяжелое только начиналось. Двигателю все равно, чем его заводить: ключом или рукояткой, если уж завелся, то в любом случае работает нормально. Так и со мной вчера. Сначала слова выходили короткими фразами, потом длинными предложениями, а потом потекли рекой. Я обнаружил, что писание — особый, даже пугающий вид воспоминаний, в них есть что-то захватывающее, приводящее в восторг. Может быть, потому, что сильно постарел (а это произошло как-то незаметно), но по-моему, это не так. Я думаю, что сочетание карандаша и памяти создает какое-то особое волшебство, и волшебство это опасно. Как человек, знавший Джона Коффи и видевший, что он мог сделать — людям и мышам, — я знаю, о чем говорю.
Волшебство опасно.
Во всяком случае я писал весь день вчера, и слова просто текли из меня, солнечная комната этого замечательного дома для престарелых исчезла, а вместо нее появилось помещение склада в конце Зеленой Мили, где столько моих подопечных присели в последний раз, и ступеньки лестницы, ведущей в тоннель под дорогой. Именно там Дин, Брут и я обступили Перси Уэтмора около дымящегося тела Эдуара Делакруа и заставили Перси повторить свое обещание подать заявление о переводе в психиатрический интернат в Бриар Ридже.
В солярии всегда свежие цветы, но вчера к полудню я ощущал только ядовитый запах горелой плоти мертвеца. Звук газонокосилки за окном сменился гулким капаньем воды, медленно сочащейся со сводчатого потолка тоннеля. Путешествие продолжалось. И если не телом, то душой и разумом я был там, в 1932 году.
Я пропустил обед, писал часов до четырех, а когда наконец отложил карандаш, рука моя ныла. Я медленно спустился в конец коридора второго этажа. Там есть окно, которое выходит на стоянку машин персонала. Брэд Долан — похожий на Перси санитар, которого слишком интересовало, куда я хожу и что делаю на прогулке, — ездил на старом «шевроле», на бампере которого красовалась наклейка: «Я видел Бога, и его имя Тритон». Машины не было, смена Брэда закончилась, и он отправился в какой-нибудь садик, называемый домом. Я представил себе трейлер, на стенах которого скотчем прилеплены картинки, а по углам стоят банки из-под пива.
Я вышел через кухню, где только начинали готовиться к ужину.
— Что у вас в сумке, мистер Эджкум? — спросил меня Нортон.
— Там пустая бутылка, — ответил я. — Я нашел в лесу «родник молодости» и всегда по вечерам хожу туда. Потом пью эту воду вечером. Она хорошая, уверяю вас.
— Может, поддержит твою молодость, — сказал Джордж, второй повар, — во всяком случае не повредит.
Мы посмеялись, и я вышел. Я все равно огляделся, нет ли поблизости Долана, назвал себя дураком за то, что позволил ему так глубоко войти в мою жизнь, и зашагал через поле для крокета. За ним находится маленькая зеленая лужайка для гольфа, на картинках в буклетах о Джорджии Пайнз она еще прелестнее, а за ней начинается узкая тропка, идущая через рощицу к востоку от дома для престарелых. Вдоль этой тропинки стоит пара старых сараев, они уже давно заброшены. Я зашел во второй из них, который стоит вплотную к каменной стенке, отделяющей территорию Джорджии Пайнз от шоссе «Джорджия-47», и пробыл там пару минут.
В тот вечер я хорошо поужинал, посмотрел телевизор и лег спать рано. Много раз я просыпался по ночам, пробирался в телевизионную комнату и смотрел старые фильмы на канале американской классики. Но прошлой ночью все было не так, я спал как убитый и совсем без сновидений, которые преследовали меня с самого начала моих упражнений в литературе. Вся эта писанина меня, должно быть, утомила, а я ведь вовсе не молод.
Когда я проснулся и увидел, что полоса света, обычно лежащая в шесть утра на полу, уже перебралась к самой спинке моей кровати, то вскочил так быстро и в такой тревоге, что даже не заметил уколов артрита в бедренных суставах, коленях и в лодыжках. Я оделся как мог быстро и поспешил вниз в коридор к окну, выходящему на стоянку автомобилей сотрудников, в надежде, что место, где Долан оставляет свой «шевроле», окажется пустым. Иногда он опаздывает и на полчаса…
Не повезло. Автомобиль уже стоял на месте и тускло блестел в лучах утреннего солнца. Похоже, у мистера Брэда Додана была причина приезжать в последнее время вовремя. Да, старый Поли Эджкум куда-то ходит рано утром и что-то замышляет, а мистеру Брэду Долану очень нужно знать, что же именно. «Что ты там делаешь, Поли? Расскажи мне». Он скорее всего уже наблюдает за мной. Было бы здорово постоять именно здесь… если бы я мог.
— Пол?
Я повернулся так быстро, что чуть не упал. Это пришла Элен Коннелли. Она широко раскрыла глаза и выставила руки вперед, чтобы поддержать меня. К счастью для нее, мне удалось удержать равновесие: у Элен ужасная подагра, и я разломил бы ее пополам, как палочку, если бы упал в ее объятия. Романтические чувства не умирают, когда вы попадаете в странную страну, лежащую после восьмидесяти, но можно забыть сюжет «Унесенных ветром».
— Извини, — сказала она. — Я не хотела тебя пугать.
— Все нормально, — отозвался я и слабо улыбнулся. — Лучше просыпаться так, чем от пригоршни холодной воды. Я бы нанял тебя делать это каждое утро.
— Ты смотрел, на месте ли машина, да? Машина Долана.
Обманывать ее не имело смысла, поэтому я кивнул.
— Жаль, что я не знаю точно, он в западном крыле или нет. Мне нужно выйти ненадолго, а я не хочу, чтобы он меня видел.
Она улыбнулась тенью той дерзкой вызывающей улыбки, которая, вероятно, была у нее в юности.
— Вот любопытный, да?
— Да.
— Его нет в западном крыле. Я уже спускалась на завтрак, соня, и могу сказать, где он, я специально узнала. Он в кухне.
Я посмотрел на нее с испугом. Я знал, что Долан любопытен, но чтоб настолько?
— Ты не можешь отложить свою утреннюю прогулку? — спросила Элен.
Я обдумал это.
— Наверное, могу, но…
— Тебе нельзя.
— Да, нельзя.
«А теперь, — подумал я, — она спросит, куда я хожу и что же такое важное я там делаю».
Но она не спросила. А вместо этого снова улыбнулась своей дерзкой улыбкой. Она так странно светилась на ее изможденном, болезненном лице.