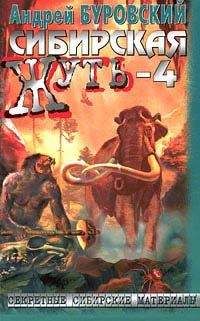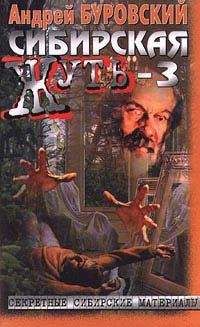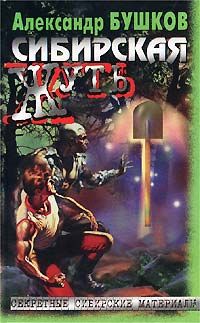Вдруг резко закричал вожак, указал рукой куда-то. И сердце у Миши упало почти так же, как утром, когда он увидел, кто к нему движется. Потому что по склону, тяжело наклонив торс, помогая себе взмахами руки, поднимался Володька Акулов.
…Седьмой час гнался Акулов за Мишей. С того момента, когда он выполз из палатки, заметил ноги, странно торчащие над растяжками, и почти уткнулся лицом в труп Юрки, не было у него большего желания, чем поймать сбежавшего Будкина. А до того, как броситься ловить, надо было еще долго растирать снегом физиономию, принимать еще граммов сто, чтобы выговаривались слова и двигались конечности, приходилось помахать руками-ногами, попрыгать, чтобы рассеялась похмельная зелень перед налитыми кровью глазами, хоть немного восстановилось дыхание, а сердце перестало бы крутиться, как бараний хвост.
И подкатывала к сердцу, стягивала горло ненависть к этому сбежавшему гаду — и за Юрку, и за свои утренние страдания. Если бы Мишка не сбежал, если бы тихо лежал бы себе в углу палатки, не надо было бы сейчас преодолевать себя, мучиться. Можно было бы тихо поглотать снежку, похмелиться, а потом выйти с шефом на связь, наврать с три короба, почему припозднились. Шеф будет недоволен — это ясно. Но он всегда недоволен. За годы у Вовки сложился прочнейший комплекс неполноценности и комплекс вины, которые Чижиков поддерживал сознательно и со вкусом. Чтобы Акулов ни делал, он всегда делал не так и всегда был во всем виноват, а раз так, то что поделаешь? Ну, опять будет орать, как всегда.
Вовка мог бы сутки, а то и больше с чистой совестью валяться в палатке, потягивать спиртик, ожидая, пока то ли снег стает, то ли Михалыч сам придет сдаваться, то ли когда (черт бы ее побрал!) установится погода и придется делать то, зачем приехали.
А тут приходилось срочно приводить себя в форму, разгребать ненаучную фантастику в речах развязанного Леньки, и все это — преодолевая дикое похмелье.
Ненавидя себя (за страдания, за похмельный синдром, за слабость тела, за то, что не убил Мишу или не связал его покрепче, за собственное убожество, запойность и ничтожность), все остальных (за то же самое) и Чижикова (за то же самое и плюс еще за право придираться, требовать, ворчать и ругаться), Вовка особенно сильно ненавидел Мишу — первоисточник происшедших неприятностей.
Глядя поверх голов «чижиков», Акулов скомандовал — ждать его сутки, после чего уходить на Исвиркет, доводить приказанное до конца. И ушел на лыжах, ненавидя оставшихся за то, что они еще сутки будут отдыхать и развлекаться, а снег за то, что он слежавшийся и по нему трудно бежать. И только на третий час бега Акулов начал входить в форму. Снег таял, и лыжи пришлось снять. Акулов поставил лыжи к стволу лиственницы и постарался запомнить место. Впрочем, больше они не были нужны, можно и не забирать.
Теперь он бежал, разбрызгивая воду сапогами, тяжело дыша на склонах. Следы Миши стали нечеткими, но можно было найти то вдавленный каблук, то неясную ямку оплывшего от влаги, нечеткого огромного следа. Интересно, отчего это так увеличились его следы? Может, это от того, что верхний слой почвы так напитался водой?
Остановившись на считанные минуты, Акулов съел банку консервов с хлебом и продолжал свой бег за Мишей. «Хоть за хребтом, а отыщу и кишки выну!» — мстительно думал Акулов.
Ага, вот и он, этот самый Миша… или, может быть, еще совсем не Миша?! Может, и про имя он соврал?! Щас разберемся! Его, Мишу, окружают мужики в шубах, наверное, местные, вроде прошлогодних эвенков. Небось поймали дурака и держат, и правильно, сейчас уж он ему покажет… Акулов перевел дыхание, выпрямился во весь рост. Ему сверху что-то кричали, он ответно помахал рукой.
— Здорово, мужики!
— Уаааррр…
Вот тут-то и встал Вовка Акулов, уперся зрачками в зрачки, словно влетел с размаху в бетонную плиту. Не будем врать, будто оказался Вовка таким дураком и уж настолько ничего не понимал, чтобы совсем не испугаться. Но и не таким человеком он был, не доводить дело до конца или чтобы, попав в непонятную ситуацию, начать не действовать, а думать. Как раз думание-то он и презирал изо всех своих немалых сил.
— А ну пусти!
Вовка отпихнул молодого самца, чтобы добраться до Миши. Напор был страшен, самец потерял равновесие и отлетел на полметра. Вовка кинулся к обалдело таращившемуся Мише.
Самец легко признал в Мише своего сородича — пускай странного, быть может, и больного. Но Миша и вел себя, как полагается: слушался старших, принимал позу подчинения, почему и был легко посвящен в члены стада — и младшим самцом, и позже старшим.
Акулов тоже был вроде своим, по крайней мере, был похож на такого же гораздо больше, чем все остальные животные. Но это влекло за собой очень четкие следствия, о которых самец не мог бы нам рассказать, но которые тем не менее коренились в тысячелетних инстинктах. Например, Акулов должен был занять свое место в иерархии самцов. Миша сразу стал подростком и самец начал его даже опекать. А этот смотрел нагло, в глаза, позы подчинения не принимал и, кажется, собрался драться… А! Необходимо выяснить, кто главный!!!
Если бы великан ударил Акулова кулаком, он наверняка его бы убил. Но самец бил открытой ладонью, он еще проверял, надо ли драться. Если бы Акулов оказался гораздо сильнее его, самец тут же признал бы его главным и встал бы в позу подчинения. Акулову повезло — он только полетел спиной вперед, перекувыркнувшись несколько раз.
— Уа-ааррр…
Ага! Этот все-таки слабее! Самец поднял Акулова, поставил его на землю, тот падал. Самец еще два раза поднимал и ставил тело, и Вовка рушился на землю. Раз самец поставил Акулова на голову, и тот тем более упал.
Великан присел рядышком, с интересом рассматривая этого странного, необычно хилого самца. Что-то здесь было не так…
Акулов приходил в себя… и опять уткнулся зрачками в зрачки жуткой получеловеческой морды. Немели мышцы лица, саднило в ушибленном боку. Не отводя взгляда, Акулов вскочил, изо всех сил двинул в челюсть этого в меховой шубе. Дернулась огромная морда, отброшенная кулаком. И второй раз повезло Акулову — самец уже понял, что отвечать Вовке с полной выкладкой нельзя — убьешь. И потому двинул ногой даже лениво, с развальцой.
— Уааа-ррр… Ууууу…
Великан с интересом наблюдал, как Вовка судорожно перекатывается на земле, хватает воздух. Миша был единственным, кто сочувствовал Акулову. Все стадо от души веселилось.
— Ух! Ух! Ух! — смеялся старый, седеющий самец, тыча в сторону Акулова рукой.
— Ха-а-ха-ха! — почти по-человечески смеялись самки, растягивая рты на пол-лица.
— Хи-ха-ха-хи-хт-хт-хи-хи-хи! — противно хихикала девчонка-подросток, выглядывая из-за лиственницы.