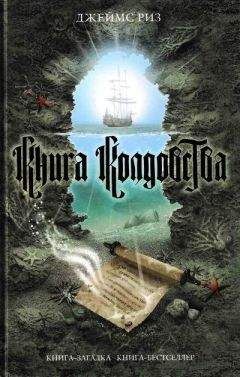Подождите. Здесь не годятся слова «выпила» или «проглотила», потому что они предполагают некую добровольность. Я не желала пить эликсир, а если и проглотила его, то лишь для того, чтобы не задохнуться.
Бру вливал в меня питье посредством большой фарфоровой воронки, узкий конец которой, достигавший в длину десяти дюймов, был смазан каким-то жиром. Алхимик поставил мензурку на паркет и запрокинул мою голову, ухватив меня за волосы, после чего ему удалось вставить воронку мне в рот. Потом зажал мой нос, вынудил меня разомкнуть челюсти и влил жидкость в мое горло.
После этого я собрала остатки самообладания и обвела взором красно-белую комнату с твердым намерением найти хоть что-то, чем можно…
И я действительно обнаружила подходящий предмет. Точнее, предметы: силой ведьминского взгляда я вытащила из стены изрядное количество гвоздей (при этом кости, белесая плоть и красные камни со стуком попадали на пол) и устремила их в сторону Бру. Гвозди и гвоздики, прикреплявшие части странных созданий алхимика к стенам и потолку — так сумасшедший охотник за бабочками пришпиливает к бархату еще живую добычу, — понеслись, как железные молнии, но не причинили Бру большого вреда. Полет их постепенно замедлился, сила инерции иссякла (Ремесло — одно, а законы физики — совершенно другое), и лишь несколько гвоздей долетели до цели. Бру спокойно вытащил их, они поранили его не больше, чем крапива или жалящие клювы птичек-колибри. В итоге мне пришлось отступить на самый последний край обороны, поскольку с тех пор Бру стал завязывать мне глаза. Старый алхимик понял, где сосредоточена воля ведьмы, и стал остерегаться моего жабьего глаза. У меня не оставалось иного выхода, кроме как слепо ему повиноваться и пить его зелья вместо еды, способной поддержать мои силы.
Короче говоря, я голодала, хотя и не умерла от голода. Вообще-то я знала, что не умру, и Бру тоже знал. Меня не могло убить ничто, кроме прямого насилия вроде пуль или удара клинка. Нас, ведьм, убивает только кровь, и она сама выбирает, когда и где настанет наш конец. Никакие чары или эликсиры не могут предотвратить уготованной нам участи, это я знала точно. Но приблизить свой конец не могла, хотя в течение последующих недель не раз пробовала лишить себя жизни. Я звала алую смерть, но, увы… ничего не добилась. Что же мне еще оставалось? Целыми днями и неделями я лежала голая, в собственных нечистотах, и гадала, скоро ли Бру закончит свои опыты и какие перемены произойдут во мне — во мне, обреченном Ребусе, несчастной ведьме, жаждущей прихода крови.
Я сходила с ума. А книга — та самая, что могла спасти меня, если бы я нашла ее раньше, — лежала рядом, в десяти футах от кровати. Да, я сходила с ума. По мере того как недели медленно ползли по календарю, проступавшему в тумане моего сознания, слабость овладевала мною, жизнь таяла, словно мираж, и лишь алхимическое зелье подкатывалось к моему горлу, а я погружалась в пучину безумия. Эта пропасть была так глубока, что я едва осознала происходящее, услышав свое имя — «Генри!» — под окном, выходящим на улицу. Там, внизу, стоял Каликсто, и он звал меня.
Ртуть есть перманентная стихия Воды, без коей не происходит ничего, ибо она есть истинно духовная Кровь всего сущего, и когда она соединяется с его Плотью, то смешивается с ним, преображаясь в его Душу; став единым целым, они могут принимать облик то одного, то другого, ибо в Теле живет Душа, и Душа преображает Тело в Дух, питая и окрашивая оный Кровью, ибо все, имеющее Дух, имеет также и Кровь, а Кровь есть духовный сок, питающий Природу.
Дардариус. Turba philosophorum,[145] XII век
В записке для Каликсто, которую я оставила в конторе «Бернхем и K°» у любезного Маноло, я действительно указала мой адрес — название двух пересекающихся у дома Бру улиц. Будь адрес более точным или присовокупи я к нему более подробные указания — например: «Постучать в дверь, обмазанную черным дегтем», — Квевердо Бру непременно вмешался бы и встал между нами. Этого мне как раз хотелось избежать, хотя я писала записку за месяц с небольшим до моей… алхимизации.
Теперь я знаю, что это был вторник, обычный солнечный вторник, в иных обстоятельствах не стоивший занесения в календарь. Как долго я пролежала в Комнате камней, не могу сказать. Не имею понятия и о том, в какое время суток я услышала свое имя — конечно, не мое собственное, а то, к которому я привыкла в ту пору, когда носила мужское платье: Генри.
Судя по последующим событиям, был конец дня, только-только начали сгущаться сумерки. Из-за повязки на глазах я перестала отличать день от ночи, а когда Бру позволял снять повязку, в Комнате камней, ставшей моей гробницей, свет едва горел и все так же клубился дым. Дело в том, что Бру заделал одно из окон, чтобы изменявший природу моего существа дым не выветривался и не замедлял течение метаморфоз, осуществляющихся в процессе Великого делания. К тому же он кормил меня по какой-то хитрой схеме, и я уже не могла соотнести прием «пищи» с такими понятиями, как завтрак, обед и ужин, и с часом соответствующей трапезы. Время для меня потеряло смысл. Я не умирала — о, как неприятно поразило меня открытие, что Бру не в силах убить меня ни ядами, ни зельями, ни алхимическими опытами! — однако здоровье мое, конечно же, пошатнулось. Меня трепала лихорадка, но сквозь какой-то просвет в горячечном бреду до моего помутненного сознания донеслось имя «Генри», словно из другого мира. Оно показалось мне ангельским пением. По сути, оно таковым и стало. Читатель, не упрекай меня за излишние подробности — те, что связаны с моим пленением. Тебе неприятно читать их, но представь, легко ли описывать их тому, кто сам пережил эти ужасы. Пойми, мне было еще труднее, однако теперь обязанности рассказчика требуют от меня без прикрас поведать о том, почему я не смогла ответить на призыв Каликсто, когда поняла, что он стоит на улице под окном.
Представьте: Бру заткнул мне рот кляпом. Именно так. Бездушный тюремщик, в полной власти которого я оказалась, устал бороться со мной всякий раз, когда приходил в Комнату камней, обнажал меня и пытался… Ужасно, ох, ужасно даже вспомнить об этом! Бру повадился облизывать меня. Сбросив одежду, он становился на колени рядом с моим ложем и принимался лизать мои бедра, пятки, груди, шею и так далее, и тому подобное. Лежа с завязанными глазами, я не могла предугадать, на какое место падет следующий адский поцелуй. Кажется, он по вкусу моего пота пытался понять, достигла ли я нужного состояния — такого, как у его белесых тварей. Это должно было показать, что я готова для атанора или для аутопсии; стало быть, он пытался установить, не пора ли изъять выращенный во мне камень. Ведь он наблюдал за мной и видел, как я меняюсь. Повязка на глазах оказалась для меня благословением — хорошо, что сама я не видела этих перемен, лежа в жуткой коптильне, подобно свиному окороку. Наверное, по вкусу Бру мог судить точнее, чем по внешнему виду, поэтому он пробовал языком соленость моей побелевшей кожи всякий раз, когда являлся вливать в меня свой серебристый эликсир.