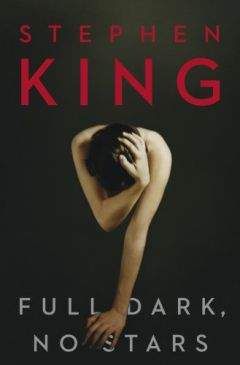— Это не могила для мамы…
Он успел сказать только это, а затем упал в обморок в куст сорняков, который вырос позади коровника. Внезапно я в одиночку держал весь вес моей убитой жены. Опустив гротескный сверток — упаковка теперь вся перекосилась и порезанная рука вывалилась, — я достаточно долго размышлял над тем, чтобы привести его в чувство. Я решил, что будет более милосердно, позволить ему лежать. Я отволок ее в сторону колодца, положил ее, и поднял деревянную крышку люка. Когда я прислонил его к двум колышкам, колодец выдохнул в мое лицо: зловоние застойной воды и гниющих сорняков. Я боролся со своим желудком и проиграл. Держась за два колышка, чтобы сохранить равновесие, я согнулся пополам, чтобы выблевать свой ужин и немного вина, которое выпил. Донеслось эхо всплеска, когда это ударилось об темную воду внизу. Этот всплеск, как и мысль «Оседлай ее, Ковбой», был постоянно в моей памяти на протяжении прошлых восьми лет. Я просыпаюсь среди ночи с эхом в своей голове и ощущением заноз от колышков впивающихся в ладони, когда я сжимаю их, цепляясь за свою дорогую жизнь.
Я отступил от колодца и споткнулся о сверток, в котором завернута Арлетт. Я упал. Порезанная рука была в дюймах от моих глаз. Я засунул ее обратно в одеяло, а затем похлопал по нему, словно успокаивая ее. Генри все еще лежал в сорняках, положив голову на руку. Он был похож на ребенка, отсыпавшегося после напряженного дня во время сбора урожая. Над головой, сияли тысячи и десятки тысяч звезд. Я видел созвездия — Орион, Кассиопею, Большую Медведицу — которые мой отец показывал мне. Вдалеке, залаял Рекс, пес Коттери, вначале один раз, затем еще. Помню, я подумал, что эта ночь никогда не закончится. Так оно и было. По сути, она никогда не заканчивалась.
Я поднял сверток на руки, и он дернулся.
Я замер, мое дыхание остановилось, несмотря на мое громоподобное сердце. Конечно, я не чувствовал этого, я сконцентрировался. Я ждал, что это повторится. Или может ее рука выползет из одеяла и попытается схватить мое запястье порезанными пальцами.
Не было ничего. Я вообразил себе это. Конечно, вообразил. И, я скинул ее в колодец. Я видел, что одеяло распуталось с конца, не обмотанного наволочкой, а затем раздался всплеск. Намного сильнее, чем вызвала моя рвота, но также донесся глухой хлюпающий удар. Я знал, что там было не глубоко, но надеялся, что этого хватит скрыть ее. Тот глухой удар дал мне понять, что это было не так.
Пронзительная сирена смеха раздалась позади меня, звук настолько близкий к безумию, что вызвал мурашки по всей коже от копчика до затылка. Генри очнулся и встал на ноги. Нет, намного хуже этого. Он скакал позади коровника, махая руками звездному небу, и смеясь.
— Мама на дне колодца и мне все равно! — пел он. — Мама на дне колодца и мне все равно, что мой хозяин уш-ееел!
Я достиг его в три шага и ударил настолько сильно, насколько только мог, оставляя кровавые отпечатки пальцев на пушистой щеке, которая еще не чувствовала лезвия бритвы.
— Заткнись! Твой голос разносится! Твой… вон, глупый мальчишка, ты снова разбудил эту чертову собаку.
Рекс гавкнул три раза. Потом все стихло. Мы стояли, я схватил Генри за плечи, задрал голову и прислушался. Пот стекал по затылку. Рекс гавкнул еще раз, затем замолк. Если кто- нибудь из Коттери проснулся, они решат, что он лаял на енота. По крайней мере, я надеялся на это.
— Ступай в дом, — сказал я. — Худшее закончено.
— Это так, пап? — Он торжественно смотрел на меня. — Это так?
— Да. Ты в порядке? Ты опять собираешься упасть в обморок?
— Я?
— Да.
— Я в порядке. Я просто… не знаю, почему я так смеялся. Я был растерян. Наверное, от того что я свободен. Все закончилось! — Смешок вырвался из него, и он хлопнул ладонью по своему рту как маленький мальчик, который неосторожно сказал ругательство перед своей бабушкой.
— Да, — сказал я. — Все закончено. Мы остаемся здесь. Твоя мать сбежала в Сент-Луис… или может в Чикаго… но мы остаемся здесь.
— Она…? — Его глаза рассеяно посмотрели на колодец и крышку, прислоненную к трем из колышков, которые были так мрачны в звездном свете.
— Да, Хэнк, она сбежала. — Его мать ненавидела слышать, как я называю его Хэнком, она говорила, что это было так заурядно, но теперь она ничего не могла с этим поделать. — Свалила и оставила нас горевать. И конечно мы сожалеем, но, тем не менее, работа по дому не будет ждать. Как и школа.
— И я по-прежнему могу… дружить с Шеннон.
— Конечно, — сказал я, и мысленно увидел, как средний палец Арлетт чертит свой похотливый круг вокруг промежности. — Конечно, можешь. Но если когда-нибудь ты почувствуешь желание признаться Шеннон…
Выражение ужаса появилось на его лице.
— Никогда!
— Так ты сейчас думаешь, и я этому рад. Но если однажды желание появится, помни: она сбежала от тебя.
— Конечно, она сбежала, — пробормотал он.
— Теперь иди в дом и достань оба ведра из кладовой. Лучше захвати еще несколько ведер для молока из амбара. Наполни их из кухонного насоса и разведи мыльную пену тем средством, которое она держит под сливом.
— Мне нагреть воду?
Я услышал, как моя мать сказала: Холодная вода для крови, Уилф. Помни это.
— Не нужно, — сказал я. — Я прийду, как только положу крышку на колодец.
Он начал отворачиваться, затем схватил мою руку. Его руки были ужасно холодными.
— Никто никогда не узнает! — Он прошептал это охрипшим голосом в мое лицо. — Никто никогда не узнает, что мы сделали!
— Никто и никогда, — сказал я, звуча гораздо смелее, чем чувствовал себя. Дела уже пошли не так, как надо, и я начал понимать, что действительность никогда не похожа на мечту.
— Она ведь не вернется?
— Что?
— Она не будет преследовать нас, так ведь? — Только он сказал изводить, сельское словечко, которое всегда заставляло Арлетт покачать головой и закатить глаза. Только теперь, восемь лет спустя, я осознал, насколько изводить походит на ненависть.
— Нет, — сказал я.
Но, я ошибался.
Я посмотрел в колодец, и хотя он был всего шесть метров в глубину, луна не отражалась в нем и все, что я увидел, было бледное пятно стеганого одеяла. Или может это была наволочка. Я опустил крышку на место, поправил ее немного, потом пошел обратно к дому. Я пытался следовать тем путем, по которому мы тащили нашу ужасную ношу, специально шаркая ногами, пытаясь затереть любые следы крови. Я сделаю это тщательней утром.
Я обнаружил нечто той ночью, что большинству людей никогда не доведется узнать: убийство это грех, убийство это проклятие (естественно, собственного разума и духа, даже если атеисты правы и нет никакой загробной жизни), но убийство это также работа. Мы вычищали спальню, пока не заныли наши спины, затем двинулись дальше по коридору, гостиной, и наконец, веранде. Каждый раз, когда мы думали, что все сделали, один из нас находил очередное пятно. Когда рассвет начал освещать небо на востоке, Генри на коленях вычищал трещины между досками в полу спальни, а я был внизу в гостиной, исследуя вязаный коврик Арлетт дюйм за дюймом, выискивая ту единственную каплю крови, которая могла выдать нас. На нем ни одной не оказалось — нам повезло в этом отношении — но капля размером с десятицентовик была рядом с ним. Она выглядела, как кровь из пореза от бритья. Я вытер ее, затем вернулся в нашу спальню, чтобы посмотреть, как держится Генри. Теперь он выглядел лучше, и я почувствовал облегчение. Думаю, что это было из-за появления дневного света, который кажется всегда, рассеивает худшие из наших кошмаров. Но когда Джордж, наш петух, издал свой первый крик за день, Генри подскочил. Затем он засмеялся. Это был маленький смешок, и с ним было все еще что-то не так, но это не так напугало меня, как его смех, когда он пришел в сознание между коровником и старым колодцем.