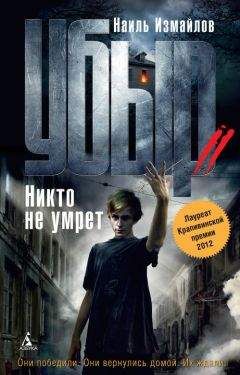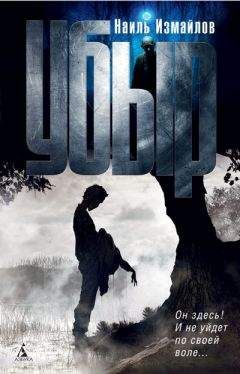Я вздрогнул. Когда вздрог кончился, я уже вертелся, присев, во все стороны и спицы держал на изготовку. Готовить было некого. В дверь никто не ломился, из комнат не выскакивал, кот не шипел — его и не слышно, и не видно было.
Дилька, съежившись, подглядывала сквозь гриву Аргамака за чем-то. За дедом, который спокойно лежал лицом вниз.
Нет, немного по-другому лежал. У него минуту назад руки…
Руки и ноги у деда дернулись вверх, ненатурально, против сгиба, и без стука опали обратно.
Я присмотрелся и как-то все понял. Дело было несложным, но размаха рук мне явно не хватало. Я показал на дедовы ноги и сказал:
— Диль, сядь тут и закрой глаза.
— Зачем?
— Закрой глаза, я сказал.
— А что ты делать будешь?
— May qap, küzläreñne yab![8] — прошипел я, и неожиданно подействовало — опять.
Дилька зажмурилась, всей рожей показывая, как недовольна. Я вставил ей в кулак спицу.
— Держи. Крепче, вот так. Руками не шевели, просто держи и не выпускай, поняла? Ни за что не выпускай. Держишь? Хорошо. Теперь, Диль, представь, что у тебя под этой рукой стол, и, когда я скажу, резко стукни по нему. Кулаком так — р-раз. Поняла?
Дилька кивнула.
Я присел у лопаток деда, прислонил спицу к темени так, чтобы из кулака крошечный кончик выглядывал, и сказал:
— Бей.
В этот раз дед дернулся как ракета со старта, прямо в кулак. Череп я ему не проткнул, Дилька с ног не слетела, только ойкнула, зато руку мне здорово обо жгло, хотя я перехватил спицу, едва на нее сквозь седой дедов ершик выплеснулся синеватый гной, жгучий и морозящий, как ток. Я не заорал и не выругался. Нельзя Дильку пугать. И нельзя ругаться на охоте.
К приезду врачей рука уже отошла, даже бледный след в виде слегка перечеркнутой дуги, словно от края банки с перемычкой, исчез. А бардак не исчез.
— Господи, что у вас такое? — сказала, застыв на пороге, врач, полноватая красивая тетка с черными-пречерными глазами. — Ну и запашок. Был на квартиру налет?
Я помотал головой, хоть мог продолжить это стихотворение, мы его в садике учили. Нет, не мог — ни настроения не было, ни сил. Я имею в виду, помнил я этот стих.
Врач сказала, продолжая озираться в дверях:
— Мальчик, а на прошлой неделе не ты?.. Так. Вы сами здоровы-то? Чего несвежие такие?
Я украдкой посмотрел на Дильку, которая неласково таращилась на врача сквозь очки, и пожал плечами. По-моему, мы выглядели сильно лучше, чем вчера или пару дней назад.
Голуби за окном исчезли, а кот сидел у Дильки на руках. Он прощелкал все сражения в прихожей и выполз из Дилькиной комнаты, когда я уже оттаскивал деда в спальню. Выполз в основном для того, чтобы соваться мне под ноги и отскакивать с очень недовольным видом. У него и сейчас вид был недовольный и высокомерный. На врача кот не смотрел. Зевал, глядя Дильке за плечо, где не было ничего, кроме стенки с обоями.
Врач качнулась вперед, но шага не сделала, а осведомилась:
— Родители дома?
Я кивнул и показал рукой в сторону зала с диваном. Врач посмотрела на меня с интересом:
— А ты вообще говорить умеешь?
Я кивнул. Стоявшая рядом Дилька хихикнула и пробормотала: «Уже да». Смешно ей.
— Ну что там, Эльвира Рифатовна? — спросили из-за спины врача. Она сказала, не поворачиваясь:
— Да тут Махно прошел, двух деток живыми оставил. Дим, а ты давеча про смешной ложный вызов рассказывал, на той неделе с Харченко выезжал, там еще милиция, мальчик тронутый и так далее. Это не здесь было? Дима, длинный худой парень в такой же, как у врача, голубой форме под расстегнутой курткой, заглянул через плечо черноглазой, сказал «Ух ты», поморщился, демонстративно зажал нос и просунулся дальше в прихожую. Огляделся, убрал руку от носа и проговорил:
— Да я бы сказал… Эльвира Рифатовна, тут серьезно.
И быстро прошел в зал, прямо в ботинках. Врач посмотрела ему вслед, тоже заметила папу с мамой, изменилась в лице и последовала за санитаром. Сапоги она снять и не подумала. Мы с Дилькой, кстати, тоже, вспомнил я и устыдился.
Мама с папой выглядели получше, чем полчаса назад. Кожа чуть расправилась и потеплела цветом, косточки и хрящи перестали выпирать, даже волосы больше не напоминали попавшую в гудрон паклю. В общем, родители были похожи на людей, пусть и сильно заболевших. И дышали тихо, но ровно. А все равно черноглазая Эльвира с длинным Димой засуетились вокруг — впрочем, слаженно и деловито. Они почти не разговаривали, редко-редко перебрасываясь непонятными словами, а жужжание и треск застежек, шипение воздуха в резиновых трубках, щелчки сломанных ампул, шлепание по коже перед уколами разносились сами собой, как и запах спирта с чем-то горьким.
Через несколько минут Дима, обеими руками поддерживавший папу на боку, пока Эльвира Рифатовна возилась со шприцем, поднял голову и хмуро спросил:
— Давно они так?
Давно, очень хотел сказать я, вы ж сами видели. Я совершенно не помнил этого Диму, который, видать, приходил к нам вместе с врачом и полицией, когда я вызывал их первый и предпоследний раз. Но он ведь явно приходил, и ушел, и оставил папу с мамой, и меня оставил, а теперь хмуро спрашивает. Но я не стал этого говорить — и глупо, и несправедливо. Ну не ушел бы Дима тогда. И что было бы? Ничего хорошего.
Я откашлялся и сказал то, что придумал заранее:
— Не знаю. Мы с сестрой на каникулах у бабушки были, вот сейчас приехали, а тут…
— Вы одни, что ли, приехали? — спросил Дима, отворачиваясь и нырнув в мягкий чемодан за каким-то пузырьком.
Я сказал:
— Да кто нас одних пустит-то. С Гуля-апой, она нас до подъезда довела и в магазин побежала, скоро вернется.
Дима странно посмотрел на меня, — видимо, переложил я спокойствия в голос. Я торопливо добавил:
— Там дедушка еще, в той комнате. Он тоже…
Дима что-то буркнул, встал и ушел в спальню. И крикнул оттуда:
— Эльвира Рифатовна, тут еще один, НЛО, по ходу.
Врач осторожно прикрыла маму покрывалом, села, посмотрела на нас с Дилькой, прищурившись, хотела что-то сказать, но молча подхватила чемодан и ушла в спальню.
Мы с Дилькой переглянулись и пошли следом. Дима нас оттуда прогнал. Не поленился встать, увести к Дильке в комнату и усадить там рядышком на кровать. Ждите, сказал — и ушел, вынимая из кармана телефон.
Мы ждать не стали, а потихоньку ушли к маме с папой, которые теперь были ненатурально румяными, как в бане, — на худых скулах такой румянец казался почти пугающим. А я радовался. И румянцу, и тому, что врачи не заметили ни у кого ни ранки в пятке, ни дырки на голове. Придумали бы нападение какое-нибудь с топором, полицию вызвали бы — а какой толк бывает в этом деле от полиции, я уже насмотрелся. Да и сами полезли бы в дырку всяким инструментом и повредили бы что-нибудь. Это ж не дырка, а, я не знаю, канал для души, что ли. Туда руками нельзя. Тем более инструментами.