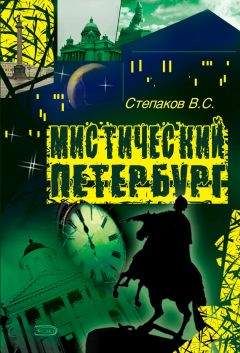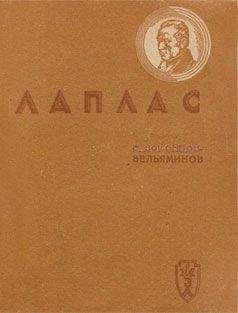Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался, о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, — это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.
Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой. Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу[5]. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.
При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцем в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.
Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл, — пишет Репин, — с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, — она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому, когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне.
Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной.
К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча привела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, — я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке[6]; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартук, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка[7], где двести шестьдесят комнат стоят, как вода в пруде, тихи и пусты.
— Ватикан, — сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. — Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?
— Эх, — только и сказал экс-лавочник, — дом этот недалеко; идите и посмотрите.
Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов.
— Ключ есть, — сказал лавочник, — только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно, на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас[8] с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.