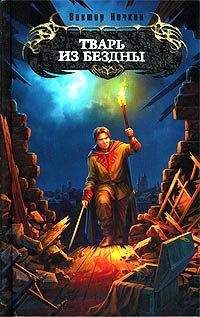Он не договорил. Голова Йожина склонилась к груди, и Трансильванский Охотник умолк навеки.
Шварцвольф сделал несколько неверных шагов, опираясь на шпагу, упал на колени, не удержавшись. Его левая рука висела плетью, страшно распоротая от плеча до кисти крюком. Кожаный жилет и скрытая под ним кольчуга висели лохмотьями — нож Расчленителя кромсал не хуже палаческого топора. Огромные черно-красные капли падали в снег частым градом.
Подняв к небу мертвенно-бледное лицо, Иржи страшно, отчаянно завыл, и ничего человеческого не осталось в его гласе, только безумное отчаяние нелюдя. А затем Шварцвольф заговорил, огненными буквами отпечатывая слова в памяти тех, кто его слышал.
Близкое дыхание смерти вдруг что-то поменяло в мире. И в Иржи. Умирал не отщепенец рода человеческого, растерявший за века право именоваться человеком. Не злодей, погубивший сотни, тысячи жизней. Умирал полководец, растерявший в горниле битвы все легионы, но не помышляющий о сдаче.
Среди трупов людских и Обернувшихся стоял на коленях, зажимая распоротый живот, Георг фон Шварцвольф. Стоял и говорил. Многое говорил. И словно зачаровал всех. Под невозможной тяжестью слов гнулись, склоняя спины, доминиканцы, болезненно морщились выжившие «Дети». И ворчали Хорты, длинными языками счищающие схватившиеся на морозе потеки крови. Своей и чужой.
Иржи говорил…
«Не будет вам с этих пор ни крыши, ни порога, ни у вас, ни у детей, ни у ближних, ни у дальних, ни у кровников, ни у чужих, гнить родам вашим до веку, всем вместе и каждому в отдельности, ни дела, ни добра, ни жизни, сдохли вы, нет вас, в могиле черви жрут и вас и дела ваши, ни до огня, ни до воды, ни до земли, ни до солнца, вам гниль, мрак да нежить, вам отныне и до веку, пока вода течет, пока земля родит, пока солнце светит, пока огонь греет…"
— Заткни хайло, пустомеля… — Вольфрам ступал тяжело, подволакивая ногу, неся на плече меч. Клинок цвайхандера иззубрился, кожаная обмотка рукояти покоробилась, напитавшись стекающей с клинка кровью. Встав за спиной Шварцвольфа, доппельзольднер поднял меч и резко взмахнул им, как косой, разворачиваясь всем корпусом. Ландскнехт смертельно устал, но мастерство того, кто не единожды в одиночку врубался в лес вражьих пик, не растеряешь за одну ночь. Путь даже и длиной она — в вечность.
Привычно и буднично хлопнул тяжелый рейтарский пистолет, разряженный Мирославом в отсеченную голову. Чтобы наверняка, чтобы Детям не пришлось делать прежнюю работу в третий раз.
Обезглавленное тело повалилось навзничь, и вместе с ним упало колдовское наваждение. Все заговорили разом, кто-то стонал от боли, кто-то неистово молился, бурчали на своем наречии тролли, деловито раскалывающие черепа убитым врагам своими здоровенными булавами.
И лишь три человека остались безразличны ко всему. Сержант Мирослав, черноволосая девушка, нежно положившая руку ему на плечо, и Отец Лукас.
— Что дальше? — мертвым голосом спросил наемник. — Как обычно?
— Как обычно, — ответил Лукас. — Распахать и посыпать солью. Карфаген должен быть разрушен. А наших — сжечь, чтобы только пепел остался…
— Не надо огня. И соли не надо, — тихо сказала Охотница. — Земля примет всех и все, я обещаю. Земля — она, как ваш Христос, прощает и принимает всех, и никого не отдает.
— Будь по-твоему, — сказал устало Лукас. — Отцы вынут мне всю душу, ну да и черт с ним.
— Этот Карфаген нельзя уничтожить. Он будет возрождаться, пока в людских душах живет грех и злоба, — сержант говорил странно и неожиданно, слова сами собой складывались в естественные и законченные помыслы. — Сто, двести, триста лет, и все вернется.
— И тогда вернемся мы, — сказал Лукас.
— Орден умирает. Он проживет еще долго, может быть, много десятилетий, но душа его уже больна. Придет время, и некому будет возвращаться.
Лукас шагнул к сержанту и положил ему руку на плечо, свободное от ласкового пожатия Охотницы.
— Может быть, ты и прав, московит Мирослав. Может быть, это будут не Deus Venántium. Но всегда найдется тот, кто встанет на пути у зла. Всегда.
— Пойдемте жечь Виноградник, — неожиданно и не по-женски рассудительно предложила богиня.
— И правда, — Мирослав будто очнулся ото сна, недоуменно взглянул на Лукаса, чернеющие на снегу трупы, разряженный пистолет в собственной руке.
— Нам понадобится много топлива, — Лукас выжидательно глянул на Охотницу.
— Огонь есть зло, — отрезала она, но через мгновение смягчилась. — Хотя… для такого дела я дам вам самую сухую и жаркую осину.
Зимний Виноградник оказался совсем не таким, как представлялся. Да оно так всегда и бывает. Все красиво лишь в сказках, а на деле оказывается мелким и кислым. Уродливым, как старый вьюн. И, сгорев, оставляет лишь жирную сажу и копоть.
История четырнадцатая. Последняя, о Моровой Деве, ландскнехте и монахе. А также о долге и смелости, завершении и начале
Смерть едет на лошади угольно-чёрной, Обряжена в рясу и скачет проворно, И рядом с ландскнехтами на поле боя Несётся галопом, зовёт за собою.
Смерть едет верхом на коне белой масти, Прекраснее ангелов Божьего царства. Как девушки станут водить хороводы, Она будет рядом, с ухмылкою подлой.
Несмотря на дождь, исправно глушащий звуки, разудалая песня разносилась далеко над дорогой, старательно вытягиваемая не слишком музыкальным, но сильным голосом.
Ещё смерть умеет стучать в барабаны, И в сердце их бой отдаётся упрямо, Играет ли громко, играет ли тихо, От боя смертельного жди скорей лиха.
Как смерть свой мотив наиграет впервые — При звуках его кровь от сердца отхлынет. Второй раз ударят смертельные дроби — Ландскнехта тогда же в земле похоронят.
Насколько привольно чувствовать себя всадником по хорошей погоде, настолько же скверно плестись под дождем, когда понурый конь грустно шлепает в грязь коваными копытами, а одежда пропитывается водой до последней нитки. Порох отсыревает, оружие ржавеет, жопа плесневеет… Воистину, скверная погода есть изобретение дьявола, Врага Рода человеческого!
Песня заканчивалась, и, чтобы разогнать дурное настроение, последние два куплета всадник пропел во весь голос, напрягая горло и стараясь переорать шум дождя.
Когда ж раздаётся удар в третий раз — Ландскнехт предстаёт перед Богом тотчас. Тот третий удар — он звучит так негромко — Как мать колыбельку качает с ребёнком! На белом коне иль на лошади чёрной Смерть скачет и пляшет с улыбкой недоброй, Разносится бой барабанный повсюду. Всё кончено, кончено, кончено будет! [18]
Насколько память не подводила Густава Вольфрама, чуть дальше по тракту, в паре баварских миль, стоял неплохой кабачок. По крайней мере, год назад точно стоял, хотя, конечно, за год много чего может случиться… Намного умнее было бы как-нибудь доплестись до него, чем останавливаться тут. Но очень уж много противных струек воды прокралось за шиворот, холодя и без того озябшую спину, да и конь уже еле переставлял ноги, явно выбирая лужу поглубже, чтобы при падении хозяин полностью все понял. Потому Густав решил не дожидаться огней вожделенного кабачка, а свернул к маленькой деревушке, примостившейся у тракта.